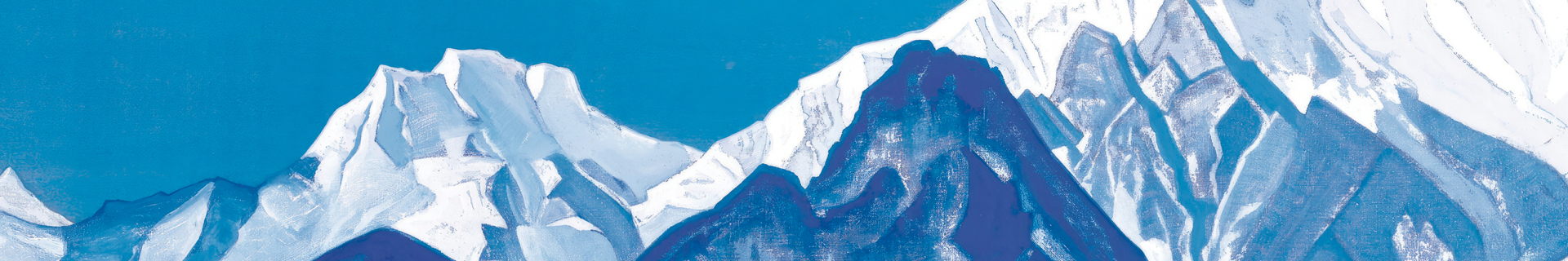
Видео
Превращение
вот и тоскую как дурак
среди фонем и многоточий
по-старому уже никак
по-новому еще не очень
подобно куколке застыл
к себе прислушиваясь чутко
еще бесформен и бескрыл
без языка и без рассудка
внимателен и терпелив
нутром пытаюсь разобраться
поймать неслышимый мотив
каких-то внутренних вибраций
и распирает немота
невыраженных откровений
теряю чувства и цвета
всё ближе приговор осенний
горчит бессмысленность как яд
и непонятный звук тревожит
то ли чешуйки шелестят
то ли хитин пронзает кожу
Канада
Канадский флаг распят на лобовом стекле,
темнеют жилы, вниз сочится влага,
нам снова надо жить в осенней стылой мгле,
где до небес – полшага,
где с севера вот-вот потянутся дымы,
сжигая сердце ледяным зарядом,
где так недалеко от воли до тюрьмы,
и вечность – рядом.
Несчастная моя! Нелепая мечта -
брести с тобой на свет дорогой длинной,
где под ногами – снег, под снегом – мерзлота,
а дальше – глина.
Спящий
Сигнализация под окнами
орёт всю ночь без перерыва...
- Да чтобы все они подохли бы! -
шепчу, и улыбаюсь криво.
Любовники исходят стонами,
терзая ласками друг дружку...
- Ну что ж за стены то картонные! -
вминаю голову в подушку,
ворчу, вращаясь и ворочаясь:
то самолёт, то вой собачий,
то пьяные разнорабочие,
то зрители футбольных матчей...
Будильник дребезжит заученно:
привет, сурок, твой день стартует -
встаю, бессонницей измученный,
чтобы крутиться вхолостую.
Рассвет бледнеет с неохотою,
мерцает солнце медным блюдцем,-
зеваю, ем, живу, работаю,
но так и не могу проснуться.
***
Амальгама тускнеет с годами,
или просто слабеют глаза? –
Но не я в этой выцветшей раме,
и уже отвернуться нельзя.
Мой двойник всё мрачней и печальней,
что-то шепчет намыленным ртом,
и черты его тайной печатью
покрываются, будто щитом.
Он уходит в себя, исчезая
среди пятен, полос и морщин,
разрывается связь временная,
остаюсь совершенно один,
лишь мелькание тени и света
оживляет поблекший квадрат…
Где лицо моё? Жизнь моя, где ты?
Глажу бритвой почти наугад.
Ломтик
Сухой, как ломтик сыра в холодильнике,
Такой же забытый, желтеющий и издающий запах,
Который при большой фантазии можно считать благородным, -
Я положу себя на твой бутерброд, - кусай, милая, -
Жуй как следует и глотай не спеша,
Только не поливай сверху вареньем -
Ты все-таки должна почувствовать мой вкус,
К тому же от сладкого начинаешь полнеть.
Элегия
Выхожу на дорогу под утро,
чтоб успеть на работу,
путь кремнистый блестит перламутром,
спать охота,
начинается день безотрадно,
да и канет безвестно,
лишь работа – как нить Ариадны
между бездной и бездной,
уж не жду ничего я от жизни -
ни достатка, ни льготы,
это молодость зла и капризна,
а по мне – лишь работа,
я давно и смертельно зависим
от ее результата,
и гудок из заоблачной выси
все торопит куда-то.
Истина
Наконец мы достигли истины,
не свернув с пути ни на румб!..
«Наконец мы достигли Индии», -
записал Христофор Колумб.
Дефолт
Жизнь Максимова была простой, как пять копеек, и стоила примерно столько же. Родился, женился, армия, завод. К 1987-му дошел до 6-го разряда,определил дочь в институт и встал в очередь на «Жигули». К 1994-му,забросив станок, освоил челночный маршрут в Стамбул и начал копить наподержанный «Фольксваген». Накопил аккурат к лету 98-го, но решил, чтолучше уж потерпеть и взять осенью «Ауди». В начале сентября похолодало, а доллар выиграл у рубля в очко – курс установился 21/1, и «Ауди»подорожал втрое. Жизнь Максимова окончательно обесценилась.
- Никогда хорошо не жили – нечего и привыкать! - по-соседски утешила его Хмылёва, цепко держа в руке две бутылки «Столичной» и слегка опирая их на обширный бюст, – ты бы лучше закусь какую-нить продавал, возле моей водки пошла бы на ура.
Уже который день стояли они рядом в суровой шеренге продавцов, на которую выплескивался выходящий из метро народ. Чего только не предлагали в этом строю – от сомнительного вида дамских сумочек «Луи Виттон» до столь же сомнительных бледно-синих цыплят. Продавцы стояли молча, устало глядя перед собой, кто разложив товар на картонных ящиках, кто просто держа его в руках – торговля была запрещена, и так было легче исчезнуть. Большинство людей – таких же хмурых, как и продавцы, в таких же темных бесформенных одеждах - проходили мимо, отвернувшись, иные, наоборот, приценивались, торговались. Хмылёва предлагала «Столичную», и ящик легко уходил за день – прибыли хватало на продукты для парализованной матери и сына-второклассника. Максимов продавал хлеб – свежий, вкусно пахнущий. Его выдавали работающей на хлебокомбинате Максимовой вместо денег, и это было удобно и надежно: голодать не придется.
- А чего, плохо живем? – ответил Максимов, - лишь бы войны не было, да и ладно. Хлеб и водка есть – значит, выживем. Нас дерут – а мы крепчаем! В 91-м похуже было. Чеченов еще бы вот только успокоить…
- Это Америка нам гадит! – пояснила Хмылёва, - сделали нам дефолт, а сами хотят землю нашу скупить по дешевке, будешь ты у них пахать за гроши.
- А то я сейчас миллионер, – засмеялся Максимов, - да я на ваш дефолт забиваю болт! Денег-то, конечно, нет, но нас-то хрен сломаешь - держимся! Всегда так было и так будет! Руки-то на что? – он потряс зажатыми в крепкой ладони двумя батонами, упакованными в полиэтилен.
- Это у тебя руки, а старикам как быть? – спросила стоящая рядом с ними старуха Даниловна в нелепой розовой панаме, торгующая вялеными лещами и дачным овощным ассорти, - кончится сезон, как выживать?
У Даниловны была своя история, с опорой на десять огородных соток и грузом в виде крепко пьющей дочери. Сорок лет, проведенных медсестрой в Воркутинской больнице, высушили её и закалили, так что вопрос насчет выживания был своего рода кокетством. Хмылёва открыла уже было рот, чтобы сообщить ей об этом, как вдруг на Максимова налетела, обняв его и прижавшись, худая низенькая женщина в такой же как у него замусоленной куртке. Жена. Какое-то время она стояла, замерев и вдыхая хлебный дух, которым пропах Максимов, а он, отведя руку с батонами, приобнял ее другой рукой и тоже замер.
- Ну что, родила? – спросил он после долгой паузы.
- Да! - жена оторвалась от Максимова и посмотрела на него снизу вверх, - внук, три четыреста, хорошенький, лохматый как ты. Всё в порядке… Только знаешь, Коля, меня сегодня уволили, - она опустила голову, съежилась и беззвучно заплакала.
- Вот и отлично, не будет тут больше торчать с этими батонами, позориться! – влезла Хмылёва, и, выставив вперед бутылку, скомандовала: - Давай-ка лучше за внучка! Жизнь – это жизнь. Даниловна, доставай огурцы!
Они отошли к лавочкам у ближнего дома, и Максимов приладил пустой фанерный ящик вместо стола. Даниловна расстелила полиэтилен, разложила овощи. Как-то слаженно получалось у них всё, как в сработавшейся бригаде, и жена Максимова уже не плакала, а достала и быстро нарезала ломтями «Бородинский». Хмылёва, опасливо оглядевшись, выдала каждому по картонному стаканчику, затем сорвала резьбу со «Столичной» и плеснула уверенной рукой по равной доле.
- Это вам не говённый «Рояль», на экспорт делали! – гордо сказала она, и все оценивающе понюхали стаканчики.
- Ну что, за внука, – сказал, волнуясь, Максимов, - новый человек родился! Представьте, пройдет лет двадцать, и будет он жить в богатой красивой стране, весело, бесстрашно и свободно, не то что мы тут…
- Пей, не болтай попусту, пока менты не нагрянули, - оборвала его Хмылёва, - главное, чтобы здоровенький был, а что там впереди – лишь Господу ведомо.
Картонные стаканчики бесшумно сошлись над ящиком. Все улыбались.

