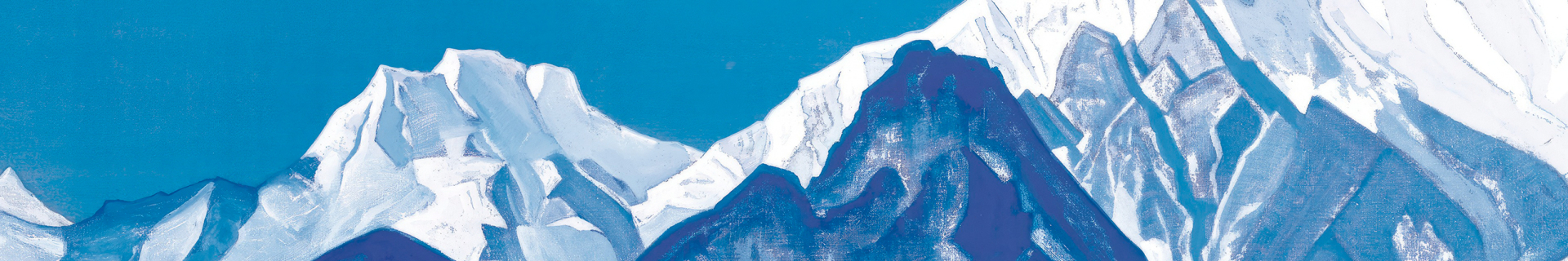
Видео
ЗАПЕЧНИК
Петрозаводский художник Виктор Сергеевич Чижов после развода купил дешево в глубинке деревенскую избу.
Отчего так поступил?
Душа просила.
Даже, не просила – требовала!
Тринадцать лет прожил с любимой женой, а так и не нашел с ней общего языка. Не понимала Танюша, что, кроме денег, шмотья и машины, есть другие ценности.
Вечные.
Духовные.
Витю с детских лет тянуло в искусство – рисунок с бабой Ягой изобразить, динозавра из пластилина слепить, песню про Деда Мороза исполнить, в школьном спектакле роль сыграть, стишок сочинить…
Хотел после школы в архитектурный институт поступить, но завалил проклятую математику, и пришлось идти на завод. Потом – армия. А в армии, благодаря своим способностям, стал оформлять наглядную агитацию: лозунги писать, плакаты рисовать, стенгазеты выпускать…
Так самостоятельно освоил изобразительное ремесло.
После армии позанимался в изостудии Дворца культуры, да и оказался волею судьбы на должности заводского художника-плакатиста. Женился на молодой и красивой бухгалтерше. Была она в искусстве неопытной, а в быту – молчаливой. Поначалу…
Постепенно набрался Чижов художественного опыта и мастерства. И – созрел! Ощутил, что пора самому что-то эпохальное сказать в искусстве.
Первая масляная картина «Очередь за бриллиантами в Кандалакше» приглянулась Танюше, хотя и вызвала с ее стороны в дополнение к нелепым дилетантским вопросам зачатки мечтаний о богатстве.
– А почему они так выглядят? – спросила она мужа. – Вместо рук – клешни рачьи? И лица – зеленого цвета?
– Аллегория, – пояснил Чижов. – Люди превращаются в животных при виде богатства. Понимаешь? Бриллианты, это – кандалы. Поэтому очередь – в Кандалакше…
Жена постепенно брала инициативу в свои руки. После смерти чижовской матери и доставшегося ему в наследства автомобиля «Жигули» четвертой модели, Татьяна стала мечтать о «Мерседесе».
Потом испарилось вдохновение.
Картины покупать перестали; следом пошли ругань, вопли, визги, сопли и слезы.
Развелись.
И оказался Чижов один с чувством глубокого внутреннего неудовлетворения.
Так вот и купил в конце апреля у одинокой бабки домишко с огородиком.
Место выбрал случайно, когда проезжал в тоске вдоль западного берега Уницкой губы. Приехал на Онежское озеро, осмотрелся…
Лепота!
И повело на лирику.
Вот здесь бы дачку заиметь для творчества!
Проехал вдоль берега, и обнаружил деревеньку. Похоже, заброшенную… Несколько больших избух-развалюх без признаков жизни, а над одной – дымок поднимается.
Подъехал.
Хозяйка – мелкорослая древняя бабка.
Разговорились и – вот так удача! – выяснилось, что она как раз собирается съезжать из своей халупы.
– Места у нас тут хорошие, жалко, что народ поразъехался. Давно уже все в город подались, – шамкала старуха художнику. – А тут столько ягод и грибков растет! И недорого возьму, милок.
Художнику место запало в сердце.
– В монастырь ухожу, – объяснила ему владелица напоследок. – На Валааме грехи отмаливать пора. Я ведь с Жихарькой согрешала, милок. Он попервоначалу-то был добрым. Конечно – маленький, зато нрава веселого. Брагу гнала, ох, гнала, проклятую! До сих пор в погребе остатки стоят. У меня ведь и рецепт был особенный, с клюквой да брусникой. А голбешнику моему это не нравилось. Сам он – из непьющих. Серчал. Так вот счастье наше и кончилось. Шибко нервным он стал. А дочка – вся в него, меня не любит да ругает.
Старуха дальше несла едва различимый вздор, а Чижов рассеянно слушал ее, погруженный в грустные размышления о трудной доле истинного творца.
– Скотина-то у тебя есть? – спросила бабка. – Свиньи, куры? Может – корова?
– Что? – переспросил Чижов, возвращаясь в реальность. – Ах, корова. Нет, коровы нет.
– Он лошадей любит, – пояснила бабка. – Чистоту и порядок поддерживай, не лентяйничай – этого он не выносит. Может наказать.
Тут она снова пустилась в нелепейшие рассуждения о ком-то (вероятно, имея в виду покойного мужа), кто не любит, если его не уважают.
– Будет стучать дверьми да окнами, кидать тарелки, надписи на стенках писать, может кошку сбросить с печки, пряжу попутать, – бормотала бабка, ковыляя из кухни в сени. – Не гневи, милок, дедку. Он ведь ночью может наваливаться, и пойдут у тебя потом перемены жизненные, али нездоровье приключится. На Троицу сплети венок и повесь в сенях. Избушка у меня справная, дрова ещё с прошлого года возле печки остались…
Чижов машинально кивал.
– Когда каравай испекешь, горбушку отрежь, посоли, и забрось под печь.
С тем и расстались.
***
Отпуск Чижов взял в начале июня.
Природа цвела и благоухала, погода благоприятствовала, боль от разлуки с Татьяной постепенно рассасывалась; пора было приступать к новым творениям, начинать этакий «розовый период» – как у Пикассо, например.
Он набил салон машины художественными альбомами, холстами, красками, растворителями, кистями, а также запасами еды и питья, решив полностью отрешиться от старого мира и цивилизации.
Месяц в деревне!
В конце концов, ему уже – тридцать пять; в эти годы все классики достигли высот, а Рафаэль даже успел умереть!
Еще взял с собой магнитолу и кучу компакт-дисков для вдохновения, а также несколько фотографий бывшей жены. Эх, милая, и чего тебе не хватало?!
***
День выдался жарким.
Заброшенный огород густо покрывали высокие желтоголовые сорняки, между которыми проглядывали также широченные лопушиные листы. Над огородными растениями порхали бабочки и пчелы; слышался стрекот кузнечиков и частые восклицания невидимых птах; петух сидел на заборе; ящерица грелась на тропинке, ведущей в уборную…
Замечательная атмосфера для ваяния шедевров!
Чижов установил мольберт в тени березы, что росла посреди огорода, сел на стульчик, и приступил к работе.
Сюжет в голове уже сложился. «Кающаяся Татьяна». Композиция, естественно – с известного полотна Тициана, а вместо Магдалины – портрет экс-супруги.
Он укрепил рядом с мольбертом крупную копию-плакат тициановской картины, и стал широкими мазками срисовывать первичный фон. Сначала – грубые формы: темные скалы с левой стороны холста, синее небо по правой стороне… Тут, кстати, можно и с настоящего неба дерануть: день-то какой солнечный! Ни облачка! Одиннадцать часов, а этакая жарища уже…
Может, оголиться для прохлады, подумал внезапно Чижов. Все равно деревня заброшенная, никого вокруг нет.
Через полчаса, закончив с фоном, он решился: сбросил одежду и, почувствовав оттого легкость, душевно повеселел. Эх, Танюша, еще привезу тебя сюда! Все у нас наладится! А пока… Надо бы сделать перерывчик небольшой. Нарзанчику попить.
Кстати…
А, почему, собственно говоря, только нарзанчику? Бабка же говорила, помнится, про брагу, что осталась в погребе? С клюквой и брусникой.
Говорила.
Отчего бы её не попробовать? День-то – просто чудо! Песня!
Чижов отошел от холста на несколько шагов и придирчиво посмотрел на начало творения. Нормально! Процесс идет в правильном направлении.
***
Очнулся уже ночью. Первой мыслю было: где это я? Затем: как тут оказался?
Почти ничего не было видно, так как лежал он на полу. Было жестко, холодно, и очень хотелось пить.
Во мраке чей-то тонкий голос пропищал:
– Всё равно он мне нравится. Замуж желаю.
– Дура! – прогундосил кто-то глухо. – Он же не из наших.
– Зато красивый. И это – большое!
– Кто здесь? – испуганно спросил в темноту Чижов.
Голоса оборвались, наступила тишина.
Чижов приподнялся и ощупью нашел выключатель. В кухне стало чуть светлее.
Ага, значит, я – у себя, понял Чижов. На своей даче, стало быть.
Правильно: я же картину рисовал.
Помнится, жарко было…
А-а, потому я и голый. То-то холод забирает!
А где одежда?
Он постепенно фрагментами вспоминал события дня.
Значит, вначале все шло своим чередом. Приступил к творчеству. Сделал фон. Было жарко, да. Пришлось раздеться. Вот! Значит, одежда – на улице. На огороде, видимо, осталась.
Он, шатаясь, выбрался из избушки и побрел на огород.
Вон и погреб.
Эх, бабушка, бабушка…
В свете белой ночи он легко нашел разбросанные свои вещи...
Надо затопить печку; дровишки-то старушачьи, вот они, лежат.
А как ей пользоваться?
Эх, не спросил у ведьмы!
Тут надо пояснить, что Чижов – так уж получилось – отродясь не имел дела с печками. Вырос в городе, где сплошное центральное отопление; в армии тоже все было цивилизованно.
Просто напихать поленьев в нее и зажечь?
А куда пихать?
Он осмотрел печку.
Занятное сооруженьице.
Но – нужное!
Какая-то заслонка…
Он отодвинул заслонку и обнаружил огромный да темный широченный зев. Вероятно, сюда?
Снял заслонку и стал швырять в зев поленья.
Побольше накидать, чтоб стало жарко, как в бане!
– Эй, полегче! – внезапно раздался из темного зева гнусавый вопль.
Дрова стали вылетать назад, а за ними вылез…
Чижов моментально забыл про холод и жажду.
Ну и тип!
Рост – меньше метра. Бородища – почти до пола, да и сама рожа – вся в волосьях. Длинная подпоясанная красная рубаха, синие штаны; из штанов торчат ноги, покрытые густейшей шерстью – как у животного какого. Когти огромнейшие…
А уши – кошачьи!
Ничего себе, котик!
Под глазом у типа стремительно рос синяк.
– Ты, что,скотина, безобразишь! – заорал бородач, уставив в Чижова когтистый палец. – Ты меня бревном чуть ока не лишил!
– Позвольте, – залепетал Чижов, – но я же не знал, что…
– Надо знать, пропойца! Почему на мусорной куче валялся, почему спать лег, не поужинав?
Обращение «пропойца» обидело Чижова. Отродясь таковым не был!
– Попрошу без оскорблений, уважаемый, – попробовал он урезонить краснорубашечника. – Меня даже наш главный инженер по отчеству называет. И, потом, какое вам дело, лежал я на мусорной куче, или – нет? Где хочу, там и отдыхаю!
В печке хихикнуло.
– Да я же здесь обычаи блюсти поставлен, пропойца! – снова оскорбительно закричал карлик. – Прасковья нас бросила, так ведь она ж тебя предупреждала о традициях?! Я же слышал, как она говорила, мол, уважай дедку!
Претензии карлика стали раздражать Чижова. Кто он такой, что права качает в чужом доме? Залез в печку, и думает, что ему все можно?
Нахал!
Может, беглый лилипут из цирка?
– Вы по какому такому праву в мой дом забрались? – заговорил художник строгим тоном. – Грабануть решили? На «Жигули» позарились? На магнитолу?
– Шельмец! – совершенно вышел из себя бородач и от ярости так засучил ногами, что скрежет его когтей вызвал на спине Чижова дрожь. – «Твой дом»? Накось-выкуси! Что, никогда про голбешников не слыхал? Печь никогда не топил!?
Господи, что он несет, подумал художник. Вот аферюга, так аферюга!
– Вы мне, гражданин, не вешайте лапшу! Коли лилипут цирковой, так думаете, вам все позволено? А если я полицию вызову?
– Тьфу! – злобно плюнул карлик. – Какие еще лилипуты цирковые? Сказано же тебе: до-мо-вой! Почему вещи на огороде расшвырял, пропойца? Забыл про порядок? Под березой лужу целую сделал, пьянчуга! А уборная на что?
– Я не обязан знать про всяких домовых, – медленно стал пугаться Чижов.
Что-то было в карлике уж слишком зловещее. Ноги с когтями, уши кошачьи… И претензии довольно странные. При чем тут уборная?
– Тем более, наука доказала, что их нет, – продолжил он миролюбивее. – Стало быть, вы – обычный карлик. Лилипут из цирка. Сбежали из труппы? Ладно, бывает – труд тяжелый, не спорю. Но, согласитесь: нехорошо по чужим печкам лазить, дедушка! Могли бы предупредить. И вид у вас, извините… Хоть бы побрились – а то, физиономия – как у столетнего кабана!
Карлик побагровел:
- Ах, срамник! Лилипутом заслуженного голбешника обзываешь! Лизуном сделаю поганца! Будешь волосы у детей, да шерсть у овец зализывать!
- Не надо папаша, - пропищало из печи. – Лучше жени его на мне! Пусть запечником будет! Мы тебе внуков наплодим!
Тут уже настоящий ужас овладел Чижовым. Точно, подумал он, этот бандит – не из цирка! Да еще и не один. Сколько их в печку забралось? Банда карликов! Из лагеря рванули?
Сумасшедший уголовник…
Запросто ножом пырнет!
Чижов почувствовал в организме чудовищную слабость. В горле совсем пересохло.
– А могу и пастенем сделать, и будешь, скотина, тенью на стене, - усилил напор карлик и страшно впился своими недвижными буркалами в глаза Виктора Сергеевича.
Он еще и гипнотизер, мелькнуло у Чижова. Похлеще Кашпировского будет, Вий проклятый!
– Не надо, папаша! – снова провизжал бабий голос из печной утробы. – Нравится он мне. Детей хочу от него!
– Да он в печках ничего не соображает! Какой из него будет домовой? Уж лучше в петуха превращу, потом суп сварим!
Господи, да неужто такое возможно, заколотило Чижова. Неужто этот и в самом деле – домовой? И тут он вспомнил старушачьи россказни. Вот оно что! Это, значит, она про него плела? Не гневи, говорит, дедку, а то навалится… Приплод от него принесла… А почему бы и нет? Человеком-то его назвать с такими когтями на ногах – язык не повернется… Вот и навалился! В петуха обратить хочет… Ничего себе! Вместо рисования картин – в кастрюлю!
Все эти мысли жутким вихрем пронеслись в мозгу Чижова, и нашли неожиданный выход в его судорожном возгласе:
– Не губи, папаша! Виноват, исправлюсь! Только – не в петуха!
– А печку изучишь?
– Богом клянусь!
- Тогда женю! Будешь знать, куда дрова кидать, сынок! – прокричал карлик, и тут нечто подняло Чижова и бросило с размаху в темное нутро печи. Там обхватили его незнакомые жаркие руки, и сделалось ему и тепло, и беззаботно…
А вот про Татьяну он тотчас же забыл!
***
С некоторых пор объявился в Заонежье умелец в подпоясанной красной рубахе и синих штанах. Ходит он по окрестным деревням и дачам, да предлагает бесплатно поставить или выправить жителям печь. Он не пьет и не курит, от денег категорически отказывается, проповедует экологию, порядок и семейные ценности, особенно упирая на любовь.
– Неважно, – говорит вдохновенно мастер, – как выглядит твоя избранница; красавица ли она писаная, или – наоборот, меньше метра в высоту. Главное – душевная чуткость и понимание. Никогда не надо ссориться и пить алкоголь. Если жена ценит мужа, а не деньги, если любит его всей душой, так она для него – и Венера, и – Магдалина в одном лице! Я, вот, например, раньше только на внешность смотрел, а потом понял – нет, не в ней одной дело! И представьте себе, нашел, таки, свое счастье! Деньги ей не нужны, и бриллиантов не просит; а зато как печёт пирожки в нашей печке! И тесть у меня замечательный, хоть и не носит обуви. Деток рожаем помаленьку. Нет некрасивых женщин, есть слепые мужчины!
Эта жизнь - бег в невидимом нам колесе.
Все бежим, только знают об этом не все.
***
Земную жизнь пройдя в две трети,
Я понял: истина проста –
Людей хороших важно встретить,
Чтоб самому хорошим стать.
***
Всему свой срок, всему своя минута –
Будь это подвиг, или, скажем, месть;
Есть срок, чтобы яйцо снести кому-то,
И срок другому, чтобы его съесть;
***
Жизнью мы крепко зажаты в горсти -
Даже и крякнуть порой крайне сложно.
Мир одному целиком не спасти,
Но вот кого-то в отдельности - можно!
***
Не всем Фортуна дарит благо –
К иным порой она строга:
На Западе жизнь портит Яго,
А на Востоке - баб-Яга!
***
Предстает картиною живою
Мир, Творцом поделенный на части:
Для зверей - цепочкой пищевою,
Для людей же - вертикалью власти.
***
Печальную повесть поведаю свету
(Покойный Шекспир, коль узнает, так - ахнет!):
Я деньги люблю, как Ромео - Джульетту,
Однако взаимностью тут и не пахнет.
***
- Жизнь - жестокая штука, сказала овца,
Проклиная голодного волка в сердцах.
Волк, конечно - подлец; ну, а, кто ж, Тот, Который
Для питанья овцой сотворил подлеца?
***
Прихотливо спираль Бытия закрутил
Всемогущий: послушен Ему путь светил,
Путь частиц в микромире, путь гениев духа,
И в харчевне утративших разум кутил.
***
Бог нас не создал меж собой сражаться,
Но люди оказались очень злы,
И заповедь «плодиться-размножаться»
Восприняли, как должно, лишь козлы.
***
Океан приоткрыл тайну страшную мне,
Что хоть многим штормами приют дал на дне,
Несравнимо их больше на днищах бутылок –
Дураков, что не ведали меры в вине.
***
Прославлен муж, что виноград сажает,
И винодел, в точило льющий пот,
И потребитель, что их труд вкушает…
Но трижды славен тот лишь, кто не пьет!
***
Хоть жизнь чужими мыслями богата,
Неправ тот, кто к ним в споре прибегает:
На каждую цитату есть цитата,
Которая ее опровергает.
***
Я понял кое-что давно:
Все рано или поздно кончится,
А неизменно лишь одно:
Чем больше ешь, тем больше хочется!
***
Блюду и нравственность, и тело,
И в Божий храм люблю ходить…
Судить других – дурное дело,
Но… Как же хочется судить!
***
Не считаю богатством года
(Хоть прожил не один юбилей)
И охотно сменяю всегда
Десять лет на десяток рублей!
***
Нам Ной из глубины веков
Свой вывод передал:
Бог слишком любит дураков,
Коль столько их создал.
***
Всему свой срок - у Бога с этим строго! -
Есть время есть, и время голодать,
Есть время для глотания спиртного,
И время эндоскопа шланг глотать...
***
Одна мне мысль приносит радость,
И укрепляет год за годом:
Не с возрастом приходит старость,
А с чувства юмора уходом.
***
Всему на свете - свой черёд:
Уж лень обуревает чаще.
Но рифма так порою прёт,
Что в гении за уши тащит...
***
Гомосапиенсовскому роду
Лишь свобода - высшая награда;
Смерть дарует полную свободу,
Но, чтоб умереть, родиться надо.
***
С красотками общаюсь лишь во сне…
Вы скажете, не радуйся, а плачь?
О, да – в любви успех не светит мне.
Зато не будет в ней и неудач!
***
Лавровыми венками обрастаю,
Однако же, при этом скромно-тих:
Себя я гениальным не считаю
(В отличие от гениев других).
***
Всем кончиться когда-то надо:
Умрет микроб, сгорит звезда,
Вселенский Рай исчезнут с Адом.
Но идиотам - быть всегда!
***
Я не люблю, признаюсь, мух,
Как адского огня. А мухи...
Эти твари - ух! -
Все влюблены в меня.
***
Жизнь порою грустней крика выпи,
И чтоб скрасить движение лет,
Возникает желание выпить,
Даже если желания нет
***
Я спросил аксакала, когда его встретил:
«Что есть главное в женщинах – ум, красота?»
«Это нужно, конечно, мой друг, он ответил, -
Только все же важнее всего немота.
***
Мысли череп распирают клиньями:
Для чего, и для кого живу…
«Не мечите бисер перед свиньями…»
А пред кем метать, живя в хлеву?
***
«Пить, иль не пить?» - вопрос от Бога;
Мы лишь подобие Его.
Нам для питья не надо много,
А, вот Ему – о-го-го-го!!!
***
Любовь, ребята – не игрушки:
Порой смертельны шутки с ней –
Когда б не дамы, может Пушкин
Дожить бы смог до наших дней?!
***
Коль не в порядке жизненный уклад,
Мы на подмогу Бога призываем,
Но ежели дела идут на лад,
О Нем довольно быстро забываем.
***
В дискуссиях порою прямо в глаз
Летит кулак в решающий момент:
Как жалко, что пока еще у нас
Он самый-самый важный аргумент;
***
Горька мужицкая стезя,
Хоть видится неявно:
Без женщин в жизни жить нельзя,
А с ними – и подавно!
***
Рай – изобилье дивных блюд,
Там можно есть и не стесняться;
А ад – он тем отличьем лют,
Что в нем нельзя опорожняться!

