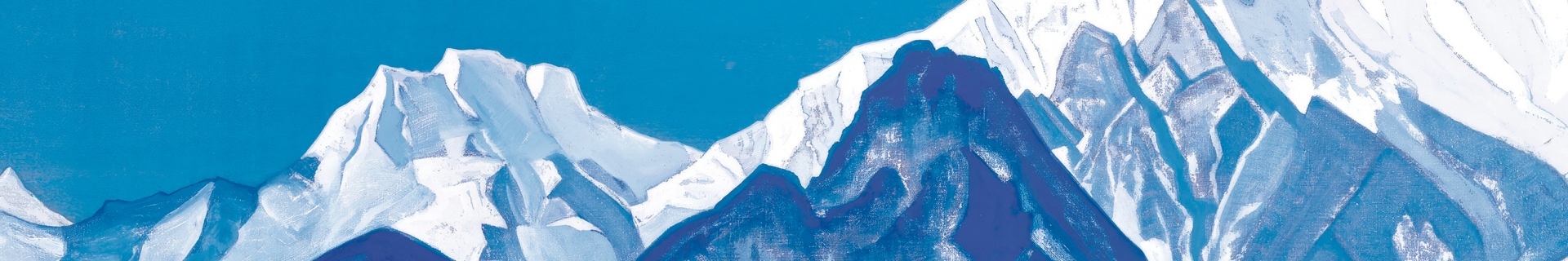
Видео
Александр Назаров
Три дня из жизни сержанта Валяуги
I
В 6.30 из коридора донёсся голос сержанта Валяуги: «Рота, приготовиться к подъёму! До подъёма полчаса!» – и чей-то негромкий смех. Подобные шутки не в духе Артураса Валяуги; те, кто прослужили с ним некоторое время, знают это и начинают потихонечку приходить в себя, натягивать под одеялом х/б.
В 6.45 взвывает сирена.
– Рота в ружьё! – гремит голос Валяуги. – Рота в ружьё! Учебная тревога!
Возле Валяуги маячит фигура майора Швеца, зама по боевой.
Суета, толкотня, путаница, вместе с первым взводом, бегущим вооружаться неодетым, в оружейную ломится кто-то из других взводов, которые должны в этот момент одеваться.
– Рота – козёл! – кричит Валяуга. – Второй-третий взводы, куда прёмся? Назад! Первый взвод, быстрее, бегом, бегом, прыжками!
Странно, – думает Артурас, – тебе тошно так, что выть хочется, а тебя почему-то заботит эта дурацкая тревога и то, уложится ли рота в норматив. Тебе хочется убежать куда-нибудь, спрятаться от всех, забиться в угол потемнее, а ты стоишь и покрикиваешь, как будто ничего не случилось… Да и что случилось? Банальнейшая
вещь… Тебя не дождалась девушка. Такая обычная вещь. Такая простая. И в это так трудно поверить. То есть было бы просто, если бы речь шла о какой-то другой девушке, а не о Линде. И о каком-то другом… хм… солдате, а не о тебе. Как там Пьер не мог поверить в измену Элен, потому что речь шла о нём и его жене…
Сержанту Валяуге оставалось до дембеля около двух месяцев, когда он получил письмо от Линды, в котором та, видимо, очень долго и старательно подбирая слова, сообщала ему, что между ними всё кончено и она уезжает с Вацлавом в Польшу. Тщательно подобранные слова звучали удивительно грубо и плоско.
– Та ещё литературная традиция, – усмехнулся Артурас, прочитав коротенькое, впрочем, как и все предыдущие, письмо Линды, и неожиданно подумал о том, что, похоже, врут про перлюстрацию писем, вряд ли получил бы он его, если бы кто-то там «наверху» это письмо прочитал. А ещё он подумал о том, как страшно может опустеть мир. И в мире останется только тоскливая, сосущая (теперь понятно, как это) боль.
Ночью он не мог уснуть. Закрывая глаза, видел лицо Линды, её глаза, улыбку, представлял её тело, чувствовал запах её духов. И ни о чём другом не получалось думать, и он вёл с ней бесконечные разговоры и пытался убедить себя, что всё ещё образуется, что ничто ещё не кончено…
Не уснул он и на следующую ночь, хотя казалось, от усталости еле донёс голову до подушки. Снова полезли в голову мысли, отогнанные дневными заботами, снова зазвучал голос Линды, потянулись сквозь марево бессонницы улицы родной Клайпеды…
В пять утра сержант Валяуга встал, чтобы сменить Дацюка.
– Чего так рано? Ещё же целый час! – удивился тот.
– Всё равно не спится, – ответил Артурас.
– Это зря: солдат спит – служба идёт. Учти, там, на улице, Швец мелькал, видать, давно мы по тревоге не взлетали, – и довольный Дацюк отправился давить на массу…
В норматив рота как обычно не уложилась, но Швец был доволен. Во-первых, быстрее, чем в прошлый раз, во-вторых, ни у кого ничего не посыпалось, как обычно, когда рота сделала круг бегом вокруг казармы. Значит, всё в порядке. Всё хорошо. У Валяуги глаза как у кролика… Тоже, что ли, в фуль по ночам режется в карауле?
Надо бы прекратить это безобразие, – подумал Швец. – Хотя… проблем с несением службы нет, а для молодых дураков всё радость…
II
В половине первого сержант Валяуга вышел на проверку постов периметра. Из столовой доносился стук кубиков и приглушённые голоса. Народ, вместо того чтобы спать, резался в фуль на щелбаны.
– Вот, кому-то ни черта не уснуть, а кто-то чифирит и мучает себя из-за глупого азарта, – философски заключил Валяуга. – А ведь здоровые мужики уже…
Игра в фуль, или покер на кубиках, стала просто манией двух третей взвода. Артурасу в его двадцать два в сочетании с типичным прибалтийским флегматизмом казался странным этот нездоровый азарт.
– Хотя…– подумал он, – а твоя страсть к книгам разве в чём-то не сходное явление?..
Коменданты караула давно смирились с тем, что в нарушение устава Валяуга всегда читает во время дежурства за пультом. Во всяком случае – не спит.
Артурас открыл калитку и пошёл вдоль уютно освещённой КСП в сторону второго поста. Ночь была тихой и почти летней. На полкилометра вперёд, до поворота – девственная чистота бетонной дорожки.
Приближаясь к повороту, он услышал пение и не сразу сообразил, кто это поёт. Сейчас на периметре дежурил Юсуф, или по-простому Тур, из призыва Валяуги.
Артурас никогда не слышал, чтобы Тур пел. Впрочем, и разговаривал он мало. Пару месяцев назад Тур поразил Валяугу, победив на соревнованиях по борьбе, довольно легко свалив в полуфинале и финале двух кабардинцев кмс-ов по самбо Ажиева и Дугужева, а потом устоял против них обоих уже в неофициальном, так сказать, бою. Тур был на полголовы ниже обоих, но раза в полтора шире каждого, тяжелее и сильнее, и,
тяжеловатый в беге, по матам скользил удивительно легко, чуть ли не изящно. Артурас понял тогда, что сказанное перед соревнованиями Дугужевым, что победит Юсуф: всех массой задавит – не шутка: может, Тур и не был так ловок, как тот же Дугужев, но техникой владел и за счёт массы был фантастически устойчив.
Песня оборвалась, и из-за бокса, метрах в пятидесяти впереди, показался Юсуф.
– Замолчал перед поворотом, – понял Валяуга. – Если бы я не вышел на проверку на десять минут раньше, то, конечно, не услышал бы песни…
– Товарищ сержант, во время несения службы происшествий не случилось, – доложил Тур.
– Хорошо, Юсуф… – Валяуга помолчал. – А ты что сейчас пел?
– Колыбельную… Её мне моя бабушка-туркменка в детстве пела, – Тур отвечал медленно и спокойно, вряд ли он был доволен, что Валяуга слышал его пение… Но по лицу Тура прочитать что-то было невозможно. В быту они были с Юсуфом на ты, но на службе, даже когда они были, как сейчас, вдвоём, Тур обращался к Валяуге
исключительно «товарищ сержант».
В кустах пронзительно закричала птица, прогремел за лесом состав по узкоколейке.
Валяуга втянул сквозь зубы прохладный ночной воздух.
– Слушай, Юсуф, у тебя девушка есть?
– Нет, товарищ сержант. У нас с этим строго… Вот вернусь, будет и девушка, и семья… Юсуф помолчал. – Да и трудно два года ждать… Когда люди много лет вместе прожили, когда у них всё общее – два года в разлуке провести можно… и больше можно… А когда вы год, допустим, встречались, а потом надо расстаться на два…
Это очень долгий срок… Для большинства во всяком случае…
– И тебе не было бы легче служить, если бы тебя ждала любимая?
– Мне было бы труднее, – улыбнулся Юсуф, – вдруг любовь пройдёт… и зачем ей мучиться… Меня отец ждёт, мать, бабки, дед, сёстры, ещё куча родных и знакомых…
Валяуга смотрел в небо. В мире было тихо и удивительно спокойно.
– Юсуф, а что ты будешь делать, когда вернёшься в свой Ашхабад?
– Ну, сначала соберутся все родные, дня три праздновать будем… Разговаривать, радоваться. Потом поеду к морю… Буду сидеть на берегу и слушать, как оно поёт… Мы с мамой каждый год летом ездили на Каспий… Здесь леса, горы… А у нас пустыня и море… У них совсем другие голоса…
Они ещё помолчали…
– Слушай, Юсуф… Я пойду… А ты, пожалуйста, спой мне вслед свою колыбельную… И… спасибо тебе…
– Не за что, товарищ сержант.
Валяуга двинулся в сторону второго поста, и через несколько секунд за его спиной зазвучала старая колыбельная, так не похожая на те, которые знал Артурас, но в чём-то главном очень близкая им.
Странно, – думал Валяуга, – мы прослужили с ним почти два года, а по-человечески впервые поговорили только сейчас… Действительно, каждый человек загадка… Каждый человек тайна… Вот и снова повеяло бессмертной русской литературой… – Артурас улыбнулся и вошёл в калитку…
Пульт мигал всеми огнями, верещали вызовы со всех постов периметра, за пультом мирно спал сержант Валяуга, а рядом метался комендант караула капитан Марусин:
– Валя-гуа, Валя-гуа, проснитесь, товарищ сержант! У вас вызов с постов, тревога!
Валяуга спал как убитый, положив голову на руки.
– Валя-гуа, Валя-гуа, проснитесь,– не унимался Марусин, начиная тормошить Артураса за плечо. – О! Вызов со всех постов идёт! Да я вас сейчас с караула сниму, товарищ сержант Валягуа! Товарищ старший сержант Камалов! – бросился Марусин к подошедшему замкомвзвода, – почему у вас Валягуа опять за пультом спит? Он всё время спит! А там, может, случилось что! Может, часового на посту убили или он с поста ушёл!
– Если бы часовой с поста ушёл, не шёл бы вызов, – потягиваясь, говорит Камалов, снимая трубку. – Да, старший сержант Камалов, слушаю, докладывай, Гусев… Понял… Хорошо… До связи!
Камалов сбрасывает сигнал тревоги и поворачивается к Марусину:
– Там заяц под забором пролез и носился по КСП, вот «радиан» и срабатывал. Гусев говорит, здоровенный заяц, активный… Но, вроде, побегал и свалил…
Камалов потягивается снова и бредёт к спальне, бормоча: «Раз-два-три-четыре-пять, зайчик-зайчик, твою мать…».
– Товарищ старший сержант Камалов! – кричит ему вслед Марусин. – А как же Валягуа? Его же разбудить надо! Он же спит на посту! Я же его с караула сниму!
– Снимайте, товарищ капитан, – доносится из коридора голос Камалова.
Марусин какое-то время топчется возле Валяуги, потом машет рукой и уходит в свою комендантскую. Валяуга тихо посапывает. Ему снится родная Клайпеда. Он идёт по Триничиу, обнимая смеющуюся Линду, и рассказывает ей, как надо слушать море, потому что голос моря совсем не такой, как у леса или пустыни… Четыре часа ночи.
Конец апреля. Два месяца до дембеля…
Александр Назаров. Подборка стихотворений. Номинация – “Поэзия”
Голоса Аджимушкая
«Кровь горяча, и жить – всего полчаса…»
Не замолчат, звучат во тьме голоса
Сынов земли, единой ставших семьёй,
Что полегли когда-то здесь, под землёй.
Тяжёлый свод держал атлант на плече…
А смерть придёт и тихо спросит: «Зачем?»
Аджимушкай. Тяжёлый каменный свод
Держи, пока смерть за тобой не придёт.
Скажи, тяжка ль та доля, что отыскал?
Аджимушкай. Бессмертный шёпот песка.
Аджимушкай. Камней безжизненный цвет.
Я жив пока, и смерть молчит мне в ответ.
И за плечом молчит, и где-то внутри.
Я обречён, и всё же – поговорим,
Мы победим, ты слышишь, в этой ночи
Я не один. Ты слушай, смерть, не молчи.
От взрывов здесь сочилась кровь из ушей,
Вчера и днесь я лишь живая мишень,
Но я пройду по самым адским кругам,
В своём аду мы ад куём для врага.
Мы в мире тьмы, в чертогах мёртвых камней,
И камень мы долбим четырнадцать дней:
Нужна вода, от жажды сходим с ума,
Скала тверда, непроницаема тьма.
Скала тверда, но твёрже наши сердца.
Нужна вода, - стучит в мозгу без конца,
Слабы, худы, упрямо веруем в жизнь…
И блеск воды на дне колодца дрожит.
Мы промолчим… расскажешь разве кому,
Как свет лучин рассеял адскую тьму
И как вода в дрожащей пела горсти,
Как мы тогда сумели близких спасти.
Мы всё снесём: врага, что смерти лютей,
Что жжёт огнём и травит газом детей,
И хлад, и глад, и жажды тягостный бред,
И трупов смрад… Пусть нам спасения нет.
Аджимушкай. Тяжёлый каменный свод
Держи, пока смерть за тобой не придёт.
Во тьме земной себя уже не сберечь,
Но надо мной непокорённая Керчь.
Молитва
В моём саду луны
созревший плод
сияет над замёрзшими ветвями.
Наверно, ночь, наверно, жизнь, наверно,
заветное случится Рождество.
Но с неба смерть глядит,
и смерть в земле таится,
и в воздухе убитом запах: смерть,
и смерть звонит в ночи по телефону
и дышит в ухо. Что мне делать, смерть?
Когда б мне садом быть, кода б ветвями
тянуться в полночь к медленной луне…
И если умирать, то как деревья,
в безмолвной муке ветви заломив
и в полный рост и после смерти стоя…
А если падать – тоже в полный рост.
Ведь, как деревья, я к земле привязан,
я тоже словно врос в неё корнями,
в ней столько крови праотцев моих…
И наша кровь прольётся в эту землю
пускай не зря…
Но завтра Рождество.
В такие ночи думать бы о жизни,
о вечном мире Господу молиться.
А я… Ну что ж, прости меня, Господь!
Я здесь, в ночи, в саду,
луна сияет
как спелый плод божественной зимы.
Сияй, сияй над нашей грешной жизнью,
оправданной сыновнею любовью
к земле, где появились мы на свет…
Чёрное
Ой, то не вечер, то вечность прогорит грошовой свечой,
то ли речь, то ли речка чёрной кровью течёт,
бередит перекаты, солона навек иль горька,
без вины виноватым, не доплыть нам до берега.
Ой, то не весел ветер слёз не вытер с лица,
как же ты, князь, не светел, льётся боль, да не выльется,
плещется чёрной речкой по пустым рукавам,
в омуты тёмной речи канут твои слова.
Беден удел дурацкий, сила твоя скудна,
кабы тебе сказаться – выговориться до дна,
только ни в чём не волен, чёрной рекой напоён,
исходишь полынным полем, полымем, полыньёй.
__________________
Как первородным белым ложь свою пеленал,
как набухала-зрела, билась внутри война
колоколом соборным, на крови забродив,
да невозможным чёрным вырвалась из груди.
Над бесконечным млечным вечно гореть свечам,
чтобы тебе, человече, черпать ковшом печаль,
грает картавый ворон, чуя далёкий гром,
собственным криком порван, ты ль по урёмам брёл?
Знаешь, не полный-ладный, слышишь – полый-кривой,
мне ничего не надо, но погоди, постой,
чем мы себя ни мерим, нам себя не сберечь,
льётся от веры к вере чёрная наша речь.
__________________
Ой, то не месяц в небе, месяц не под косой,
как схоронили лепет в шёпот речных осок,
чем нам кому ответить, где нам, смирясь, стихать,
сносят река да ветер времени вороха.
Брошен усталый невод, выполоскано бельё,
позарастало небо небылью да быльём,
были с тобой поэты – вылиняли до лжи,
на побережье Леты горькая тень лежит.
Кто, околдован горем, иночески несмел,
белою тенью чёрен, чёрной душою бел,
мукой нечеловечьей выйдя из берегов,
снова исходит речью, напрочь лишённой слов…
Про счастье
вроде бы вышел в мир, да застрял в быту,
тараканьими лапками осень шуршит по листу,
приходил господь, говорил: выбирай, – выбрал я не ту,
неумелую жизнь, а всё же, господь, спасибо.
недалёкий ближний снисходительно учит жить,
говорит: то, что в руки само приплывёт, держи,
а я безруким пугалом у кривой межи
улыбаюсь дарам, что мимо меня проносило.
тонконогий дождик топает вдаль босым,
как на фотосессии тянет ворона: сы-ыр,
и чеширский бог улыбается мне в усы,
накорми меня, жизнь, чепухою на постном масле.
вроде счастье близко, потянешься – далеко,
ловишь рваной сетью тени от облаков,
погляди, тараканья осень, каков улов,
слушай, рыжая, а я ведь, похоже, счастлив.
не снедает зависть, не тянет пустой карман,
в небесах – кармин, в небесах неземной шафран –
я в закатное небо пялюсь, как тот баран, –
кто вверху распахнул на всю ширь ворота?
так находишь главное, а кажется, не искал,
недалёкие ближние крутят пальцами у виска,
и текут сквозь пальцы времени тонны песка,
только тем наверху на совесть наш мир сработан.
я фиговый мастер в истолкованье притч
и немногое в мире сумел для себя постичь,
только тот наверху, только он нас покличь –
мы сорвёмся в небо с птичьим бессмертным писком.
и на сердце так странно ветрено и легко,
и в ладони память завязанных узелков –
на неверное счастье, что, кажется, далеко,
а оглянешься – вот оно: близко-близко.
Авторское прочтение стихотворений "Голоса Аджимушкая" и "Про счастье"


