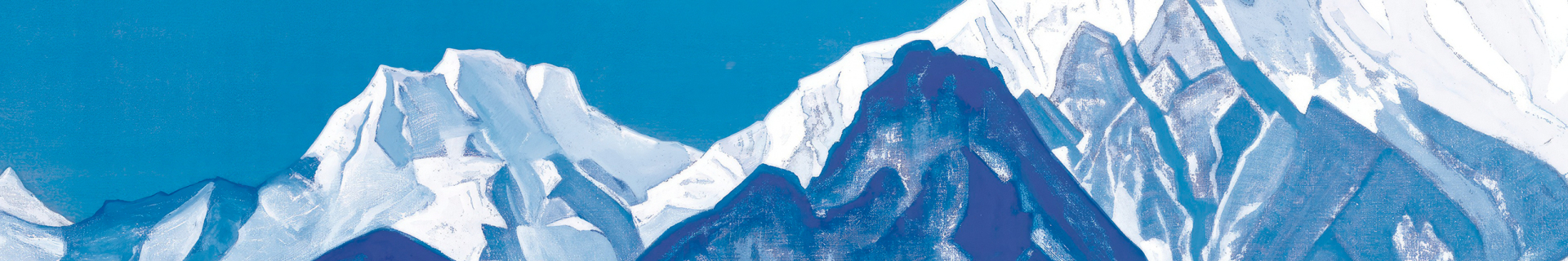
Видео
Елена Крюкова. Монопьеса "Сожженный дневник Нади". Номинация "драматургия"
Дорогой
мой человек, дорогой мой Ильич! Ты прости,
что я к тебе так поздно пришла на важный
разговор. Да это и не разговор даже, а
молитва. Я - тебе - как Богу - молюсь! Вот
лежишь ты тут, так тебе покойно и хорошо,
и не знаешь, что делается с нами со всеми,
с твоей родной страной. Ты боролся за
ее счастье. Ты жизнь положил за ее
счастье! Зачем же в революцию ты убил
столько людей? И в гражданскую войну -
убил? Спросишь, почему я так говорю: ты
убил! Да потому, что это правда! Ты
приказывал - и люди шли штурмовать старые
дворцы. Ты приказывал - и бойцы строились
в ряды, и вздергивали винтовки на плечи,
и шагали сапогами по грязи - убивать
своих братьев. По твоему приказу брат
убивал брата! Или не по твоему? Милый,
дорогой мой человек! Нужно ли было так
это все делать? Неизбежно ли все это
было? Ты нас всех учил: да, неизбежно!
Только так и делаются революции! Но ведь
из лучших чувств ты сгубил полстраны.
Народ тебя любит, да, и как ни убивай
народ во имя твое, он все равно будет,
умирая, повторять твое имя. Он умрет с
Лениным на устах!
Ты
стал великим, ты стал божеством! А я стою
вот сейчас тут перед тобой, и мне до боли
хочется припасть к твоим ногам. Они еще
теплые, ты еще жив. Ты смотришь на меня,
искры бегают в твоих прищуренных добрых,
полных света глазах, искры сыплются из
твоих глаз, и я счастлива: ты посмотрел
на меня, и жизнь опять полна, и хочется
жить и свершить много важных, прекрасных
дел! Во имя твое? Да, во имя твое! Всегда
во имя твое! Ты первый. За тобой пошли,
а ты шел впереди. Ты не боялся того, что
ты оступишься и свалишься в грязь; не
боялся, что тебя убьют. А тебя и убивали.
Та эсерка, Фаина Каплан! На заводе
Михельсона! У нее рабочие вырвали из
руки пистолет. Чуть не растерзали на
месте. А на суде оказалось, что Каплан
звали другим именем. Женским или мужским?
И она оказалась совсем другим человеком.
Все равно расстреляли. Владимир Ильич,
дорогой, я знаю теперь, расстреляют
всех! Иосиф сказал мне: хороший кавказский
хозяин всегда режет своих баранов, чтобы
они правильно размножались и не заболели
бешенством. И смеялся, и спрашивал меня:
ты когда-нибудь видела бешеного барана?
о, это страшное дело! (Тихо,
безумно смеется.)
Ленин,
Ленин! Почему ты лежишь один посреди
нашей огромной земли в этом маленьком
каменном склепе? Зачем тебя сюда положили,
заморозили ужасными веществами, впрыснули
в тебя лед и железо и оставили так лежать,
почему не погребли, как всякого русского
человека? И нет теперь креста на твоей
могиле. И нет у тебя могилы, как у всех.
Ленин! Может, тебя заморозили и положили
здесь, посреди всей страны, только лишь
для того, чтобы все, вот как я сейчас,
могли тебе молиться? Но времени нет у
людей побыть тут наедине с тобой. Их
пускают сюда на минуту, и они идут мимо
тебя быстро и тоскливо, еле успевая
схватить глазами бархатный блеск знамен,
тьму гранита, синие вспышки внутри
черного лабрадора. И скользнуть взглядом
по твоему спокойному лицу, и каждый идет
мимо гроба и думает: а вдруг сейчас он
откроет глаза!
Открой
глаза, Ильич! Открой, я посмотрю тебе в
глаза! Ты видишь, отсюда, из-под красного
гранитного потолка, меня на коленях, я
на коленях перед тобою, и я не знаю, зачем
я говорю с тобой и плачу. Плачу, потому
что надо оплакать всех, кто погиб! Плачу,
ведь только слезами можно отмыть грязь
со всех грязных людей, кто по приказу
твоему поступал подло, мерзко! Ты видишь,
Ильич, все можно извратить! Любое учение!
Любую мечту! Нет ничего чистого в мире!
И мы живем после тебя, наблюдая то, что
тебе и не снилось! Ты, может, не хотел
того, что случилось. Но ты всему этому
дал толчок! Ты толкнул нашу землю к
пропасти, и вот она туда летит, катится
как шар, и я не могу ее остановить! И
никто не может! (Поднимает
кулак вверх.)
А
знаешь, дорогой Владимир Ильич,
драгоценное, горячее сердце мое, как я
вспоминаю наш побег! Я стараюсь не часто
вспоминать его. Но это самое дорогое,
что у меня есть на земле. Я еще рожу
детей. Я еще какое-то время буду красивой,
и буду с радостью смотреться в зеркало,
и наряжаться, и нацеплять на шею бусы,
и обвораживать людей улыбками. Улыбка
у меня еще белоснежная, зубы хорошие. Я
ведь еще молодая! А ощущение у меня часто
такое, будто мне три тысячи лет. Что
будет с тобою, с твоим Мавзолеем через
три тысячи лет? Разве мы с тобой знаем
об этом? Может, вся земля сгорит в огне
чудовищной войны. Налетят самолеты и
все разбомбят. И уже никто ничего не
отстроит. Люди будут сидеть на обломках
и плакать. Как я, я плачу сейчас.
Наш
побег... Ты тоже помнишь его? Лежишь,
молчишь! Конечно, помнишь! Какое ясное
небо сияло тогда! А усадьба вдали
исчезала, как призрак! А помнишь мужика
с подводой? Вовремя он нам попался! Ты
лежал в подводе и глядел в небо. И так
ясно, чисто все было кругом, и пахло
грибами и сухими листьями, и соломой, и
навозом, и куревом, и медом. Пахло
настоящей жизнью, а мы все, в наших
господских хоромах, жили - ненастоящей.
Игрушечной и подлой. Ты знаешь, Ильич,
я сейчас тоже живу такой жизнью. Мы с
Иосифом живем как господа: нас катают
на машинах, нам шьют шубы и шапки в лучших
ателье, мы едим дорогую еду с красивых
чистых тарелок. Нам все подают и приносят,
и все уносят прочь, мыть, чистить,
перебирать и выбрасывать, мы и пальцем
не шевельнем. Мы только пользуемся.
Значит, Ильич, господа остались? Значит,
революция не уничтожила господ как
класс? Убили одних господ, явились
другие. И стоило проливать кровь!
Ты
учил: все равны! Ты учил: делай все сам,
никого не эксплуатируй! А мы, кто наверху,
без зазрения совести помыкаем теми, кто
ниже нас. Кто делает за нас всю грязную
работу. Иосиф не раз говорил мне о том,
что люди - стадо. Значит, избранные -
пастухи? Есть архитектор, и есть каменщик.
Архитектор Щусев придумал твою гробницу,
но клали гранит и лабрадор простые
каменщики. Нет жизни без каменщиков!
Без крестьян! Нет, ты помнишь, помнишь
нашу избу, где ты лежал на лавке?
Ты
лег на лавку, тебя укрыли теплой шубой,
и я сидела на полу, взяла твою руку в
свои и смотрела на тебя. Мне неважно
было, смотришь ты на меня или нет, спишь
ты или нет. Я сидела на полу, и твоя рука
в моей руке. Знаешь, вот я стою на коленях,
я как перед судьей перед тобой, как перед
Богом, и сейчас мне ничего не выдумать
и не скрыть перед тобой, и перед собой
тоже, я держала твою руку в своей руке,
и из твоей руки в мою перетекала вся
твоя жизнь. И я тогда, я не понимала
этого, теперь понимаю, молилась твоей
жизни, благословляла ее и любила ее. И
я теперь понимаю, что любовь - это вера,
важно верить в святое, я свято верила в
тебя, и я любила тебя, и такой любви в
мире нет, она есть только между теми,
кто убежит от мира.
Мы
убежали от мира, от людей, мы убежали от
твоей смертельной болезни, от твоей
жены и сестры, от армии, от флота, от
чугунных домен, от массовых казней, от
пыток и заговоров, от браунингов и
маузеров, мы опускались на дно этой
крестьянской нищей избы, как опускается
рыба в реке на дно зимой и вмерзает в
лед, мы были с тобой одни, и мы могли
думать вместе, молчать вместе, и ты спал
на лавке, а я любила тебя. Так молчать,
ведь это больше, чем спать вместе!
Женское, мужское убегает прочь, и больше
не вернется, остается лишь любовь. А
любовь всегда убегает от ненависти. И
от рабства. Она не терпит хозяев. Она не
ложится под кнут. Эта нищая изба той
дурочки стала нашей лодкой, и мы уплывали
в ней навстречу любви, мы вместе плыли,
мы вместе ели и молчали, а это будто
молились вместе, ты, атеист, и я, атеистка,
и эта лодка помогала нашему побегу, мы
плыли на ней в иное время и в иное море.
Милый!
дорогой человек! единственный на всю
жизнь мою! Прости меня, меня, что ты тут
лежишь. Я должна была убежать с тобой
так, чтобы нас не схватили. Не нашли
больше никогда. Я плохая. У меня не
удалось. Слишком много людей вокруг
нас. Я бы хотела убежать с тобой на остров
в далеком море. Море сияло бы красной
кровью на закате. Мы бы ловили в сети
рыбу. Я бы варила на костре уху. Белые
рыбьи глаза вылезали бы из орбит. Мы бы
ели и нахваливали. Я бы целовала тебя.
Я помню, как я тебя целовала. Я сумасшедшая!
У меня память сейчас хорошая! Небесная!
Я всё помню. И прошлое, и будущее, всё. Я
собирала бы с деревьев фрукты, садилась
бы на песок и смотрела бы, как ты ешь. Ты
бы помолодел, много плавал, растирался
полотенцем. Мы вместе гуляли бы по
мокрому песку и смотрели вдаль. Через
бездну, на тот свет, откуда мы убежали
в нашу с тобой единственную жизнь.
Тосковали бы мы? Или нет? Иногда я ловила
бы тоску в твоих глазах, глядящих вдаль.
А вместе бы спали мы или нет? Ты ведь еще
молодой. Ты и умер молодой. И лежишь тут,
молодой... ты...
(Оглядывает
комнату. Трогает пишущую машинку.)
Все
вещи на месте, они все те же самые, что
и всегда. Это я другая.
Мне
надо снова убежать.
Так.
Сосредоточиться. Надо собраться. Что с
собой взять в дорогу?
Мне
больно. Я иду по комнатам. За дверьми
спят мои дети. Спит моя жизнь. Плохая?
Хорошая? Я не знаю. Мы хотели сделать
Васечке слесарную мастерскую. Он просил.
Да и Сосо хочет учить его ремеслу. Он не
хочет, чтобы Васечка вырос белоручкой.
Зачем я плачу? Все время плачу? (Плачет.)
А это что? Телефон? И можно позвонить?
Правда? Правда?
Ах,
какие в трубке гудки! Они поют мне
аллилуйю.
Что?
Лейтенант Саврасов у телефона? Это
Надежда Аллилуева. Товарищ Сталин на
даче?
Так
точно? Ах, так точно! Один? Ах, не один. С
кем? С женщиной? Какое чудо! С женщиной!
Ее имя! Да имеете вы право! Имеете! Ее
имя! Вера Давыдова? Вера Давыдова! Кто
она?! Певица! Какая прелесть! Что они
делают? Беседуют и едят фрукты? Вранье!
Это
моя рука, сама, швырнула трубку на рычаги.
Другая
моя рука сама, закрыла мой беззвучно
орущий рот.
(Закрывает
себе рот рукой. Так долго стоит. Молчит.)
Тем
более. Тем более надо убежать. Убежать
навсегда. Насовсем.
Чтобы
не догнал.
Ни
с овчарками; ни с ищейками; ни с таблетками
от головной боли, заботливо врученными
кремлевским врачом, которую засунешь
под язык - и через полчаса твой труп
увозят в морг; ни с обедом у товарища
Ягоды, с бифштексами с кровью и с
запеченной в духовке стерлядью, после
которого ты корчишься в диких муках,
потом исчезает дыхание, и тебя, холодную
и синюю, опять же увозят в морг при
Бутырской тюрьме. Туда увозят всех,
убитых по приказу твоего мужа. Ты есть,
и вот тебя нет. Сталин не сильно огорчится,
если сам убьет тебя. Детей ты ему родила;
хорошо, не пятерых, но он еще свое
наверстает. После тебя.
После
меня. Что значит после? Я убегу, и сама
для себя я буду. Останусь.
Меня
не будет только для него.
А
правда, где дети? Какая разница, где.
Может, нянька повезла их в детский театр.
На спектакль Натальи Сац. А после театра
они поехали к Ворошиловым, доедать
остатки праздничного обеда, да там и
заночевали; у Климента квартира большая,
что тебе особняк.
А
я вот здесь. Дома. Ненавижу этот дом. Это
несчастный Сенат. Не хочу жить в Кремле.
Но живу! Вот хожу, хожу, хожу, хожу по
комнате из угла в угол. (Ходит
туда-сюда, нервно, дико.)
Натыкаюсь на мебель. О! Посуда! Она еще
не разбита? Надо ее разбить.
Подхожу
к шкапу. Распахиваю застекленную дверцу.
Вынимаю тарелки, хватаю с полок,
размахиваюсь, швыряю тарелки на пол,
швыряю об стену. (Вынимает
из шкафов и методично и яростно разбивает
посуду.) Певица!
А может, и мне спеть? Я знаю такую
прекрасную песню! Грузинскую! Сосо мне
пел, когда в хорошем настроении бывал!
Сакварлис саплавс ведзебди, вер внахе
дакаргулико, гуламосквнили втироди,
сада хар чемо Сулико? Я могилу милой
искал, но ее найти нелегко. Долго я
томился и страдал! Где же ты, моя Сулико?
(Обрывает
пение.) Муж
мне все время твердил, революцию не
делают в белых перчатках, и добавлял:
меня так сам Ленин учил! ну, если сам
Ленин, так что же тут и говорить, все
слова исчезают! Исчезают, вместе со
словами, и крестьяне с немытого, грязного
лика земли! Исчезают, плача в голос,
трясясь на подводах, и подводы увозят,
увозят их от родных мест туда, где они
сразу умрут - в тайгу, в тундру, в холодные
горы! Хозяина убивают из аккуратного
нагана у семейства на глазах. Семья
сидит в подводе, а куда поедут без лошади?
ее тоже убили! Ревут, глотки надрывают!
И, чтобы не слышать криков, люди в черных
тужурках стреляют и тех, кто в телеге.
Кровь? да что кровь! мы ее навидались!
мы к ней привыкли! Я сама стреляла, я ж
вам говорю! Сама убивала! Кровь, это
всего лишь варенье из клюквы! Это красная
камчатская икра на званом обеде у
товарища Ворошилова! У хитрого лиса
Климента!
Убежать.
Это хорошо я придумала. (Улыбается.)
Надо
всегда убегать от ужаса.
От
гадости. От пошлости. От грязи.
От
грязи?! А если эта грязь - твоя родная
земля?!
(Бормочет.)
...ты от земли не убежишь. Ты - по ней
побежишь. И ты на нее упадешь. И ты в нее
ляжешь.
В
эту, родимую, скользкую, холодную, дикую
грязь.
А
Сталин... вчера приказал подать нам на
обед камчатских крабов, солянку из
свежей телятины, ананасы дольками и
ястычную икру, а еще байкальских омулей,
ему прямо с Байкала в корзинах со льдом
привозят, летит на всех парах курьерский
поезд. А на Украине голод! А на Волге
голод! Люди как мухи мрут! Нянька, она
из Енакиева, шептала мне с ужасом,
прижимая ладонь к губам: на улицах по
городам и станицам трупы лежат, не
успевают убирать, и смердят. Эпидемии
пошли. Матери - детей едят!
Матери?
Детей? Едят...
Ах,
последняя чашка? Вот, у меня в руках?!
Разбить! (Швыряет
чашку об пол. Смотрит на осколки.)
Убежать,
да. Я все помню. Убежать.
Только
это одно и осталось.
Руки
мои ищут, ищут... вот здесь... и еще здесь
поглядеть, в этом ящике... ну вот же...
здесь... где-то здесь... был... я же помню...
помню... Пистолет, игрушечный? может,
сына? настоящий!
(Сжимает
в руке пистолет.)
Чей
пистолет? Иосифа? Мой? Кто его мне подарил?
Где моя память?
Память
убежала, а я еще здесь? Надо торопиться.
Страшно?
Да! Страшно! Нет! Я не боюсь! Ничего не
боюсь! Чтобы не было страшно, надо...
надо... спеть. Вот! да! спеть! песенку
спеть, какую-нибудь!.. модную песню Петра
Лещенко. (Поет.)
Проходят дни и годы, и бегут века. Уходят
и народы, и нравы их, и моды, но неизменно,
вечно лишь одной любви вино! Пускай
проходят века, но власть любви велика...
она как море бурлит... она сердца нам
пьянит... Любви волшебной вино... Как это,
дальше, забыла...
А
как стрелять... забыла... давно не
стреляла... ничего, сейчас вспомню...
Снять
пистолет с предохранителя. Взвести
курок. Какой горячий спусковой крючок.
Обжигает палец!
Вспомнила!
(Поет.)
На радость людям... дано... Огнем пылает
в крови!.. вино... любви!.. Та-ра-рам,
та-ра-рам... пам-пам... (Танцует.)
Я
все приготовила к побегу. Все вещи в
сумку уложены. Вся еда покоится, завернутая
в промасленную бумагу и в фольгу, в
старом отцовом ягдташе. Владимир Ильич,
мы завтра бежим! Зачем завтра? Надо
сегодня! Хорошо, сегодня! Сейчас! Дайте
мне руку. Мне страшно одной. Я не хочу
быть одна. Что вы кричите мне?! Что?! А!
Слышу! Надя, держи мою руку! Надя, да ты
и не одна, я с тобой! Надя, с тобой целая
страна! Бежим! Вперед!
Сюда
спусковой крючок... где тут у меня
сердце... где...
Вино...
песни... роды... аборты... выстрелы...
застолья... парады... пощечины... поцелуи...
клавиши пишущих машинок... пулеметные
очереди... знамена... знамена... как много
знамен... все красно от знамен... мои ноги
в сапожках на шнуровке... ножки, бегите,
бегите по дорожке... а потом и без
дорожки... ноги мои бегут по земле, палая
листва шуршит... маленький лысый человек...
великий вождь... сердце маленькое,
птичье... неужели я воробей... а птицам
больно, когда их стреляют... а зверям...
больнее всего людям... Сердце, неужели
ты вмещаешь весь мир... всю свободу... всю
землю, все небо... одно только движение,
нажать, и я убегу... с вами, В. И. ...
насовсем... навсегда...
(Поет.)
Я
твою могилу искал... но ее найти нелегко...
Долго я томился и страдал... где же ты..
моя... Сулико...
(Сухой
хлопок выстрела. Женщина падает на пол.)
Занавес.
p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: #000000; line-height: 115%; orphans: 2; widows: 2 }p.western { font-family: "Liberation Serif", "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ru-RU }p.cjk { font-family: "Noto Sans CJK SC Regular"; font-size: 12pt; so-language: zh-CN }p.ctl { font-family: "Lohit Devanagari"; font-size: 12pt; so-language: hi-IN }
Елена Крюкова. Рассказ "Поздно". Номинация "проза"
Елена
КРЮКОВА
ПОЗДНО
Памяти
Елены Образцовой
Как просто
зажечь свечу.
Сейчас не жгут
свечи. Сейчас лампочки везде. Весь
двадцатый век лампочки, и двадцать
первый начался, все лампы, лампы, и
мертвый дневной свет, и похоронен свет
живой. Окинуть взглядом ноты и книги
так просто. Провести зрачками вниз-вверх,
быстро обнять, ты каждый корешок наизусть
знаешь, ты все арии молча твердишь. Пламя
взлетает светом суровым! У любви, как у
пташки, крылья, ее нельзя никак поймать!
Maledizione, maledizione! Все арии и все романсы.
Все кантаты и все канцоны. Метель за
окном, она сейчас пробьет окно, пробьет
мне ребра навылет и выйдет в другом
времени, в другой ночи. Там, где меня уже
нет. И не будет никогда. Как это, как это
я сама сказала? А? Не помнишь? Горбатый
странник на земле, нога от странствия
тверда. Пишу я звездами во мгле: МЕНЯ НЕ
БУДЕТ НИКОГДА. Что-то в этом роде, да.
Губы, раскрывайтесь! А голоса нет. Вы не
знаете, как это - петь молча? А я знаю. Я
часто так сама себе пою. Пою, а голос
внутри звучит. Тьма обнимает, а в ней
голос, знаете, светится. И тьма перестает
быть тьмой. Она переливается внутри.
Так переливается чей-то красивый, веселый
косящий глаз. Это женский глаз, я знаю.
Женщина, чуть склонив голову, исподлобья
глядит на меня. У нее пышные золотые
волосы, золотой пеной встают надо лбом,
за ушами, сама смуглая, на юге загорела,
что ли, а глаз, я так ясно вижу его, серый,
прозрачный. Вспыхивает, как австралийский
опал, если вертеть его в руках. В
сморщенных, старых пальцах.
Обернись ко
мне! Посмотри на меня!
Я хочу глядеть
в твои глаза.
Я знаю, как
зовут эту женщину. Это великая певица.
Это такая большая певица, большая,
тяжелая, весомая, широкая, мощная,
грандиозная, что ее голосу всей земли
будет мало. Да и было мало. Один потрясенный
ее пеньем дирижер, знаменитое имя,
подписал ей однажды свою фотографию,
начирикал на обратной стороне черно-белого,
мгновенного портрета: "ВЕЛИКОЙ
СУМАСШЕДШЕЙ". Сумасшедшей, вы поняли?
Приличные людишки никогда не делали
большого, крепкого искусства. Тяжелого,
как чугун. Весящего столько же, сколько
весит земля, да что там - земли тяжелее.
Певицы больше нет на свете. Певица
умерла. А я еще не умерла. И я жгу свечу,
пытаюсь глядеть на пламя, а глаза
слезятся, или я просто плачу, простыми
и тяжелыми слезами, они медленно текут
по щекам и повисают на подбородке, и,
тяжелые, не капают, все не падают мне на
грудь, на колени. Я вытираю их ладонью,
и спина дрожит. Я не люблю тех, кто рыдает.
Знаете, что однажды сказал Бетховен?
Художники пламенны, они не плачут. Плачут
только слезливые бабы. И мужики, когда
их уж слишком больно прижжет.
Тьма стучится
в окна, тьма лижет крестовидные рамы,
отталкивая от расписных серебряных
стекол мороз, тьма наседает, а я вспоминаю.
Вспоминать - не еду стряпать, с воспоминаний
сыт не будешь! А я бываю. Я вижу все и
слышу, и я уже сыта и пьяна. И нос в табаке.
Кармен вон работала на табачной фабрике,
и нос у ней был весь в табаке. Меццо-сопрано!
Величайшее на земле! Вы только представьте,
до чего крохотная у нас планетка, если
эта великая моя певица, эта роскошная
златовласка, облазила, облетала ее всю
- вдоль и поперек. Какие залы ей
рукоплескали! Какой обед нам подавали,
каким вином нас угощали... уж я пила,
пила, пила... и до того теперь дошла... что
даже готова... готова...
Но тс-с-с... об
этом - ни слова...
Гляжу вниз,
под стол, на свои ноги. Старые дырявые
тапки. Завтра я их выброшу. А сегодня
жалко. Потому что я в них ходила, шлепала
я в них, в тот горький год, во время оно,
когда хоронили мою великую певицу.
Тщетны были
бы все усилья! Но крыльев ей... нам не
связать...
Все напрасно,
мольбы и слезы... и красноречье, и томный
вид...
А вы знаете о
том, что эта певица, эта красота
неописуемая, это жидкое тяжелое золото
голоса, оно всё льется и льется, льется
и льется дождем на черную нищую землю,
эта гордая женщина с летящей походкой
и высокой грудью, воительница, богиня,
Афина Паллада и Сивилла Дельфийская,
когда-то давно, в темных годах, в мертвых
веках, помогла мне?
И чем, спросите,
помогла? Свеча горит и чуть трещит. Я
сую пальцы в огонь и снимаю нагар. Пламя
не жжет. Говорят, Благодатный Огонь в
храме Гроба Господня, перед Пасхой, не
жжет ничуточки; я верю в это. Я тоже могу
сейчас умыться огнем, как там, на Святой
Земле. Я приходила к этой женщине домой.
Я снимала грязные боты у ее порога и
надевала домашние тапки. Ее тапки,
мягкие, ласковые, разношенные. Я робко,
дрожа от восторга, по гулкому темному
коридору и солнечной анфиладе просторных
комнат ее особняка шла к ее роялю. А
впереди шла моя подруга. Подруга училась
у великой певицы. Она училась у нее петь?
О, нет. Так думаю - не петь. Гореть; пылать;
плакать; плыть; умирать.
А потом снова
жить.
Великая певица
выходила к нам из ванной. Ну и что тут
такого, разве великие певицы не принимают
ванну? Не принимают душ? Ее золотая
голова была обмотана махровым полотенцем,
как тюрбаном. Она туже стягивала пояс
шелкового халата, и я помню рисунок на
шелке: парчовые разводы, красные молнии
и золотые турецкие огурцы. Было ощущение,
что дерзкий огонь разожгли на блестящем,
как леденец, паркете. От певицы пахло
дивным парфюмом. Она жестом царицы или
полководца в бою указывала: вперед!
Подруга вставала
к роялю. Заслоняла рояль спиной, как
амбразуру дзота. И верно, звуки рвались
вон из золотого, медного рояльного
нутра, из сплетенья хитрых жестких
струн, убийственным огнем; летели пули
звуков, рвали на кровавые клочки грудь
моей подруги, и осколки от взрыва летели
мне в лицо. Летела в глаза и лоб мне
черная, взорванная земля. Я жмурилась.
Пальцы вслепую нашаривали клавиши,
вгрызались в них, отчаянно ударяли по
ним. А потом гладили их - так плоть гладит
чужую плоть в любви. А певица стояла у
рояля, с другой его стороны, она плыла
в горячей волне музыки и высовывалась
из-за колышущегося борта черной лаковой
лодки, расставляла руки, будто шла по
узкой жердочке и изо всех сил сохраняла
равновесие, и кричала, просто орала,
надрывалась, не стесняясь ора своего,
торжествующего, огромного, зычного, как
у мужика: "Люда! Шире! Шире пасть!! Ори!
Вопи!! Да вопи же ты, не тушуйся, шире
пасть разевай! Еще шире! еще! еще! Бурный
поток, чаща лесов!" - "Голые
ска-а-а-алы, мой прию-у-у-ут!" - обреченно
орала в ответ певице моя подруга, и тут
певица подходила к ней ближе, подскакивала
как-то хитро, боком, и вдруг совала руку
ей в рот, и, Боже, что это?! я щурилась
из-за пюпитра, из-за старинных, шуршащих
мышиной изгрызенной, легче пыли и пыльцы,
желтой бумагой, пахнущих воском
драгоценных нот, что это там у них
происходит?! что это у подруги моей во
рту такое торчит?! что...
А ничего. Певица
быстро и коварно вставляла подруге в
рот, между передних зубов, щепочку. Да,
щепку, тонкую палочку такую. А чтобы
подруга не могла закрыть рот. А только,
распялив глотку жерлом, кричала, орала.
Звала на помощь. Возносила хвалу. Плакала
и рыдала. Проклинала. Благословляла.
Так со щепкой
во рту стояла подруга моя и орала благим
матом.
А потом
выплевывала щепку себе в ладонь - и пела,
пела.
Косноязычно.
Мучительно. Слезы блестели на румяных
щеках.
Благословляю
вас, леса, долины, реки, горы, воды!
А я играла. Так
играла, будто огонь из пожарной трубы
заливала! А получалось так - огонь полыхал
еще пуще. Пот бежал по спине. Певица
сдергивала с головы мокрое полотенце,
швыряла его на паркет. Встряхивала
головой, как собака, что выскочила на
берег из реки, и с мокрых волос разлетались
капли мелким грибным дождем. "Хорошо!
Хорошо! Но мне не хватает груди! Живота,
живота не хватает! Матки! Маткой пой!
Вот отсюда! Отсюда!" И опять подскакивала
к моей подруге, и клала ладонь ей на низ
живота. И надавливала. А я колотила по
клавишам нещадно, пугаясь втайне - а
вдруг и пианистка тоже должна играть
не пальцами, а маткой!
...да. Именно
так. Играть надо всем существом. Петь
надо всею собой. Жить надо всем телом и
всем сердцем, и всей душой, и всем духом,
а если ты живешь вполовину, то ты и не
живешь. А так, делаешь вид. Сам себя
успокаиваешь, что - живешь.
Бедный конь в
поле пал! Я стрелой добежал. Вот и наш
посад!
Я оглядываюсь
кругом. Это мой посад. Я посажена в этот
дом навечно, и это мой дворец, моя тюрьма,
моя оперная сцена - все что угодно, любое
пространство, воображай не хочу. Тьма
обнимает. Я еще светлая. И меня еще
освещает свеча. Меня. А великой певицы
больше нет. Той, что стояла у роскошного
рояля, в огромном пустом репетиционном
зале, на фоне собственного портрета - и
живописец изобразил ее точно такой,
какой она и жила-была: златовласой,
торжествующей незримую победу, с улыбкой
как слепящий в солнечный день чистый
снег, с пылающими щеками, с глазами, что
то вспыхивают, то гаснут лукаво, и потом
опять царски горят подо лбом, прозрачные
серые кабошоны, - да, точно такой, как в
жизни, только - мертвой. Вся живопись
мертва перед ней. Все красивости. Все
краски. Голос - это не краски. Голос это
вихрь, это поток. Бурный поток! чаща
лесов! голые скалы...
Мой... приют...
Я сидела за
роялем, а певица подходила ко мне, она
ходила широкими шагами, она была
царственно неприличной, она не стеснялась
никого и ничего. Клала тяжелые руки мне
на плечи. "Запомни, девочка, запомни
навек! Искусство не терпит гладкописи.
Гладкой игры, гладенького пенья. Искусство
не терпит комильфо! В искусстве лучше
передать, чем недодать. Пожадничать.
Или испугаться. Лучше пережать, чем
недожать! Слышишь?! Не робей, воробей!
Тебя будут за это бить. И больно бить!
Еще как лупить! Но высшее счастье,
девчонки, это быть самою собой. Быть
собой! И переселяться в кого хочешь! В
Азучену! В Ульрику! В принцессу Эболи!
В Марфу Посадницу! Ты, - она сильнее,
больнее нажимает ладонями мне на плечи,
- помнишь Марфу?" Я киваю. А что мне
еще остается делать?
И тогда она
видит, что я вру. Что я ничего не помню.
И, усмехнувшись углом красивого крупного
рта, она раздувает львиные ноздри,
глубоко втягивает в певчую грудь воздух,
и из ее необъятных, как небо с облаками,
всесильных легких вырывается это,
могучее, страшное.
Силы потайныя!
Силы великия! Души, отбывшия в мир
неведомый, к вам взываю!
Я вбираю голову
в плечи. Мне страшно. Страшно мне! Подруга
моя прижимает руки ко рту. В этом голосе,
как в небе, можно падать бесконечно, и
все-таки упасть, и все-таки разбиться.
Разбиться в прах, вдребезги, так и не
узнав, не поняв, что же такое эта проклятая
смерть.
Души утопшия,
души погибшия, тайны познавшия мира
подводнаго! Здесь ли вы?!
Я протягиваю
руки. Куда? Зачем? Там, куда я их тяну,
никого нет. Нет великой певицы. Пустота.
И черная земля. Она навек сомкнулась
над ее красивым певчим ртом. Над ее
золотыми пышными, пшеничными волосами.
В ее волосах могли гудеть пчелы и ночевать
махаоны. В ее глазах плескались моря.
Моря слез. Сантуцца! Туридду убили!
Туридду убили! Надо плакать. Надо рыдать
и кричать! Кричи! Кричи, разевай рот
шире! Сердце шире раскрывай! Так сердце
свое раскрой, чтобы оно всю землю
вместило, всех людей! Горе их и радости
их! Только тогда ты будешь петь! Ты
слышишь?! Слышишь?!
Боже мой. Боже.
Да, слышу. Слышу, конечно. Я не могу сейчас
встать перед тобой на колени. И взять
твою руку в свои не могу, и поцеловать
ее не могу. Стоя на коленях, целовать
твою руку и бормотать: великая, безумная,
прекрасная, все небо, все облака. Ты
говорила мне все верно. Я дышу твоим
голосом, как ветром. Я ловлю его губами,
зубами. Душой ловлю, а он вырывается и
улетает. Искусство - не точка, а объем.
Как ты говорила: все делай, что хочешь,
только сильнее в сто раз! Как ты ворковала:
не бойся, не бойся женскости, она твоя
сила, но в этой женской силе будь сильнее
любого мужчины. Как ты кричала: ложь!
Если раз соврешь - будешь в искусстве
врать всегда! Беги, убегай ото лжи, она
гибель и ужас! Только правда живет! А
если выдумка?! Да выдумай так, чтобы тебе
поверили, как самой настоящей, великой
правде! Великой правде, слышишь?!
Внезапно плечам
моим легко. Это ты отняла от них ладони
свои. Это ты подняла руки свои. Подняла,
и стоишь, как Оранта на фреске. На древней
иконе. Ты сошла к нам с иконы - и в нее же
вошла. Вернулась. А мы смотрим тебе вслед
и думаем с содроганьем: неужели и мы...
и мы все, тоже, скоро...
Великая,
тяжелая, воздушная, золотая. Сумасшедшая
и мудрая. Спасибо. Спасибо тебе, что ты
у меня была. У меня, девчонки. Спасибо,
что допустила к своему гудящему, как
оркестр, громадному роялю; допустила
до себя; впустила в скинию свою, в святая
святых. И там, в рабочем, дымящемся храме
своем, голом, как каменистая пустыня,
где сам навощенный паркет светился
кварцевым горьким песком, ты, во влажном
халате, только что из-под воды, из-под
душа? - нет, из-под струй дождя, из-под
хлещущего наотмашь ветра и снега, вытирая
мокрое от пенья, все в соленом поту,
жаркое лицо, ловя воздух ртом, задыхаясь,
смеясь, и вот уже плача, и вот уже шепча
и молясь, заклиная, прося, - давала нам
знать, двум молоденьким курицам, двум
котятам приблудным, двум пацанкам, что
вознамерились посвятить себя Великой
Музыке - и посвятили! добились своего!
- что такое мощь трагедии и яркая боль
невыносимой радости, на зуб давала нам
распробовать Правду: горечь и лютость,
силу и негу, снега и вьюги, и такие
объятья, что сродни глубокой, в грудь,
ножевой ране, сродни всему, что не
вернешь. Я не верну тебя! Никто на свете
не вернет тебя! Даже Бог! А что Ему
возвращать тебя, ты же к Нему ушла! Ты у
Него - поющим, летящим ангелом стала!
...тьма. Горит
свеча. Уже догорает. Пахнет нагаром.
Мерцают грязные, после скудного одинокого
ужина, тарелки. Светится старым серебром
вилка, рядом с ней молчит нож. Это не нож
Ромео. Это просто старый столовый нож.
Он никого не убьет. Я, знаете, не очень-то
люблю мыть посуду. Иной раз оставляю в
раковине: до утра. Ложусь, натягиваю
простыню до подбородка, а сама горько
и весело думаю: а может, утра-то не будет.
Метель бесится за окном. Метель, косматая
Азучена. Метель, безумная Сантуцца над
мертвым телом Туридду. Я боюсь того
неотвратимого мига, когда свеча затрещит,
ярко вспыхнет и сгаснет. Но я не протягиваю
руку к лампе. Я не хочу мертвого света.
Я хочу света живого. Только - живого.
Всегда - живого. Хочу боли. Хочу любви.
Хочу правды.
Безответная
на угрозы... куда ей вздумалось, летит...
...спасибо! ты
у меня была...
...поздно.
p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: #000000; text-align: left; orphans: 0; widows: 0 }p.western { font-family: "Times New Roman", serif; font-size: 12pt; so-language: ru-RU }p.cjk { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 12pt; so-language: zh-CN }p.ctl { font-family: "DejaVu Sans"; font-size: 12pt; so-language: hi-IN }
Елена Крюкова. Три стихотворения из книги "Знаменный распев"
Елена
КРЮКОВА
Три
стихотворения из книги "Знаменный
распев"
-
Тропарь Божией Матери «Богородице Дево,
радуйся»
Богородице
Дево, Радуйся, Благодатная Мария, Господь
с Тобою; благословенна Ты в женах, и
благословен плод чрева Твоего, яко Спаса
родила еси душ наших.
***
Я
прощаю Времени мои раны.
Я
прощаю Времени его копья
И
ножи его: так вонзались странно,
Норовили
к сердцу, а то к изголовью.
Я
прощаю детям жестокие пытки
Беззащитных
- и визги за гаражами.
Я
прощаю лжи бесконечные свитки,
Где
её палимпсест вопит под руками.
Я
зверям прощаю скрежет зубовный,
Крючья
хищных когтей и голод извечный:
Вы
- пожрать мя?.. а я вам - песней любовной,
Бестелесной
добычей, зарёю встречной.
Я
прощаю птицам и клюв, и клёкот:
В
небе чистом, будто дитяти дыханье,
Слышу
лишь голубей рыдающий ропот,
Вижу
крыл Благовещенских воздыманье.
Я
прощаю людям все плётки, пули,
Все
бичи, все зенитки и все снаряды.
Палачи
и герои навек уснули,
А
дивися, новые пялят наряды.
Человек
убивает вновь человека,
Все
равно, дальний, ближний ли, неизвестный
Иль
родной, забудь, он враг либо лекарь,
Иерей,
бормочет стихиру над бездной.
Тяжело
простить бандита, убийцу.
Тяжело?
А ты возьми да попробуй!
Эти
каменно-тяжкие, твердые лица,
Все
в щетине, над грубой тюремной робой.
Я
прощаю. Убил. Ну, а если матерь,
Да,
твою? Иль отца твоего? Иль брата?
Сдёрни,
криво крича, ты с посудой скатерть,
Перебей
на счастье, до первой расплаты.
Вы
не верите? Верите так, вполсилы?!
Не
по нраву вам любви угощенье?
Я
прощаю вам, люди! Давно простила.
...вам,
беда, наплевать на моё прощенье.
И
шепчу я всё невнятней и тише,
Полоумная
сеть узлы вяжет больно:
Богородице
Дево, радуйся, слышишь,
Просто
радуйся, только радуйся, только........
-
Ирмос канона Богородице «Отверзу уста
моя»
Отверзу
уста мои, и они исполнятся Духа, и слово
изреку Царице Матери, и явлюсь светло
торжествующим, и воспою радостно Ее
чудеса.
***
Праздник,
это праздник, пусть на полчаса!
На
столах навалена всей земли краса:
Персики
пушистые, вина - южный зной,
Вспыхнут
перевитою сладкою струёй!
Хрустали
гранёные! Олово, латунь,
Рюмки,
чаши сонные, блинная ладонь!
Чокаемся,
хлопаем друг друга по плечам:
Здравия
желаем дням ли, ночам!
Это
праздник Времени! О!.. догадка жжёт.
Хочу
слово выдохнуть, да замолк мой рот.
Глотку
перехватывает рыболовный прут,
А
вокруг - распятые радостью - поют!
Вносят
торт на блюде!.. тесто вдруг косит
Головой
отрубленной... виноград висит
Кистию
бессильною... звон созвездий чист...
Золотыми
листьями... ропотом монист...
Ах,
пирог возлюбленный! Где мой острый нож!
Пополам
разрубленный, нынче не уйдёшь
От
насквозь пирующих, жарко-жадных ртов,
На
тебе жирующих, рыбонька-любовь!
Ихтис,
первозванная!.. на краю взошла,
Лодкой
бездыханною ляжет вдоль стола,
Носом
осетровым - с заката - на восход:
Рюмки
полны крови - веселись, народ!
О,
замри, веселие! Карнавалий, встань!
Грянет
Воскресение сквозь оклада скань.
Встаньте
все, бокалом пусть задрожит душа:
Бог
идет! Окончен Путь! Невесомый шаг...
Бог
идет с улыбкою к вашему столу.
Бог
подцепит вилкою рыбную стрелу.
Ему
- табуреточку: мол, садись, пируй
С
нами... ну, со встречею... под свиванье
струй...
Тихо!
Тихо! Встанет Он под высверки ножей
Над
столом безумным, над сгибаньем шей
В
ожерельях зрячих и слепых камнях,
Очами,
косящими в факелах-огнях!
И
замрёт неистовый Валтасаров пир,
И
молчанье чистое вытрется до дыр,
И
в ночи хохочущей, страшной тишине
Молвит
Он тихонечко, ветром по стерне,
Скажет
Он раздумчиво, медленно, как снег
Падает
под тучами с поднебесных век,
Выдохнет
Он песнею, музыкой огня:
-
Завтра все воскреснете. Празднуйте -
Меня.
Смолкли
железяки все. Смолкло всё стекло.
За
столом притихшим Время потекло.
И
текло пьянее пьяного вина,
Дрожало
сильнее, чем острая струна,
Плакало
все громче, безутешней вдов,
Плакало
огромней, чем в ночи любовь,
Подставляй
стаканы, чашки и бокал,
Он
пришел так рано, никто и не ждал,
Он
пришел внезапно, как и говорил,
Нынче
или завтра, с крыльями, без крыл,
И
на пир явился, на безумный пир,
И
за нас молился, за безумный Мiръ,
Пьяное
застолье, рыбы-хрустали,
За
терпенье боли да за соль земли,
И
сидели, смертные, все мы как один,
За
судьбу ответные, за пиры годин,
За
кусок ржаного, рюмочку накрыть,
За
имя святого, что всю жизнь носить,
Да
в лицо глядели, счастливы, Ему,
Пока
не истлели, не ушли во тьму,
Да
шептали песнею на исходе дня:
"Завтра
все воскреснете. Помните - Меня".
***
Как
тяжело глядеть воглубь
И
видеть всё насквозь, до косточки, до
жилы.
Всё
знать, что будет. Ты пророка приголубь,
Пока
мы здесь-сейчас, пока мы живы.
Пророк,
для чуда он разверзнет рот,
Плодом
воспыхнет в мощных Райских кущах.
...пророк,
во срок как всё, как все, умрёт,
Провидя
грозный праздник свой грядущий.
Как
он, глаза я закрываю - и
Пытаюсь
зреть иные окоёмы...
Не
вижу ничего опричь любви -
Ни
во соборе, ни в Содоме.
Как
все орут... свиваются в клубки
Змеиной
злобы... языки раздвоены,
И
жалят, и кусают - от тоски:
Так
от тоски вдруг вспыхивают войны.
Как
лбами все сшибаются... вопят...
На
сто веков вперёд нам ненависти меты...
Пророк,
он больше не придёт назад.
Он
всё нам спел. Поцеловал планету.
Не
разгадаю Времени письмен.
Не
обласкаю клинопись перстами.
Не
поднимусь с затёкших я колен
Пред
образами, что горят над нами.
Дрожу.
Слеза разрежет горечь губ.
Пророчий
лик все обречённей, ближе.
Мне
тяжко, невозможно зреть воглубь.
Но
я гляжу. И не скажу, что вижу.


