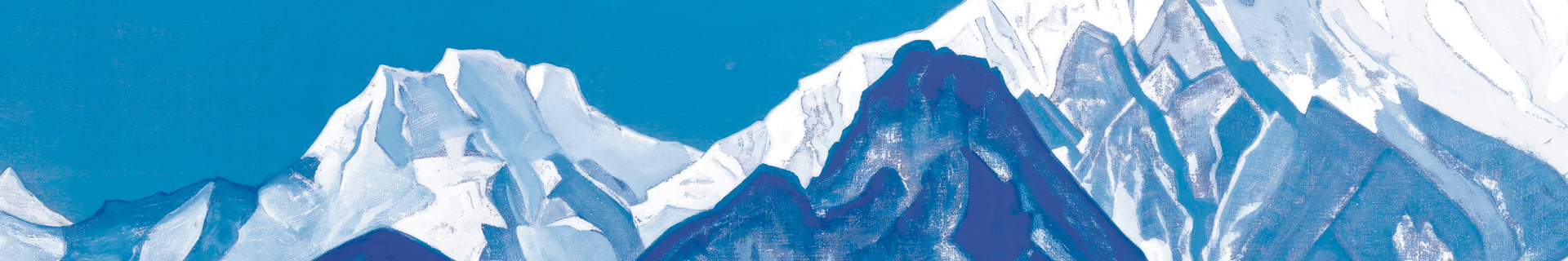
Видео
***
Так мёдом недозрелый чернослив
в вечернем полумраке поливая,
болеть воспоминанием трамвая,
какого след десятки лет простыл.
И разобрали рельсы. И раздали
не по размеру платья, свитера…
Я вырастаю из себя и исчезаю,
заглядывая в дальнее вчера,
в медвяные такие вечера.
Там счастье – меж высоких фонарей,
где синее разбавлено пунцовым,
а «папа» не звучит еще отцово
и «мама» – обреченно, как теперь.
Или цедить сквозь грушевую крону
текущее по небу молоко,
в нем бусинки мерцают и не тонут
разбросанных в прорехах огоньков.
Нетленно лето и компот фруктов.
И я смотрю внимательно туда:
в замшелое бессрочное тогда,
что ныне, присно и вовеки будет.
В меня оттуда смотрит человек,
наивный незнакомый человек,
что верил в наилучшую из судеб.
Ему ложились в ноги чудеса,
хотелось изучать и осязать,
худое таяло, а лучшее сияло.
Но где-то состоялся перелом,
и смутное бесцветное «потом»
разбухло в непроглядную усталость.
Так павшим в Лету имя легион:
прозрачноглазым, вечным, золотым,
густы их чащи, реки глубоки,
и солнце светит с четырёх сторон.
То были окончательно не мы,
но ясные стремительные сны
о том, как дети в мир вовлечены,
стихийно влюблены.
В осипший ветер, в сломанный забор,
в осенний неприкаянный простор…
И присно, и вовеки, до сих пор.
***
Красота в глазах смотрящего.
И я вспоминаю, как смотрела
на загорелых, проворных, смелых,
в волейбол, по щиколотку в песке увязая, играющих.
Для них это было самое важное дело,
принципиальное дело.
Уникальный в своём ритме счастливый танец.
Танец юности, беззаботности, бликов солнца,
расплескавшихся по глянцевито лоснящейся коже.
На десятки таких же по сути – ни капельки не похожий,
потому что запечатан в моменте:
каждой клеткой прочувствован, запечатлён и прожит.
Ах, какая была в них животворящая сила,
звонкоголосая неопалимая сила.
Господи, как красиво…
А я подавать умела разве что в аут,
и на приёме больно звенели предплечья,
расцветая назавтра бескрайними синяками.
Потому в волейбол я почти никогда не играла,
исподлобья взирая на торжество человечье.
В такие моменты они запасали энергию.
В такие моменты я запасала энергию.
Они – умножая чувство собственного всесилия,
я – принимая прекрасным чуждое, невыносимое.
От этого взахлёб колотилось сердце,
хотелось объять, раздать и обратно впитать сторицей.
И так раз за разом, из поколения в поколение…
Но, пожалуйста, Господи, не обувай их в берцы,
не выстраивай вдоль границы,
не стирай лица,
не прерывай поток.
Умов отмени затмение
или экономическую целесообразность
самого страшного, самого уродливого явления.
Ведь красота не утратит своё значение,
только если для неё останется место,
если продолжимся мы,
если не будет войны…
***
Арестовали парк до выяснения…
Но мирно улыбается осеннее
седое солнце тёплым воскресеньем:
мол, не беда, никто не виноват.
А в листопадно-траурные салочки
охряные пронзительные бабочки
гоняют на подсоленном ветру
и сиротливо грудятся в углу.
Снаружи за решёткой бродят парочки
и с завистью, с досадой смотрят, как
среди клеёнок и шпатлёвки баночной
торчат петрово-водкинские мальчики
(чугунные, возвышенные над!)
за перекрашенными прутьями оград.
***
Полое солнце дремлет в озябшем воздухе:
белая-белая-белая даль без просини…
Чёрная сеть наброшена на рыжину.
Мне бы молочную стынь киселя небесного
в пригоршню зачерпнуть.
Мне бы собрать про запас золотого, медного,
чтобы оно до весны истекало светом бы
в выпотрошенном дому.
Но я стою посредине безлюдной улицы
и ничего из этого не пойму.
И ничего не могу. Только ждать и щуриться,
как бы оно само разошлось во мне –
полое солнце, простёртое бледным куполом –
в начисто обескровленной глубине.
***
серафимовое просо
зябь чернильную прошило
из бессонного пространства
смотрят острые глаза
ёжится простывший воздух
робко в чёрном переулке
слякоть мнётся то ли таять
то ли насмерть замерзать
далеко ещё до лета
далеко ещё до правды
ждёт-не-ждёт пока безликий
теневой промозглый тыл
одиночество планеты
одиночество свободы
сиротливо стонет эхом
выхолощенных квартир
я войду включу рубильник
пискнет жалобно духовка
в окнах гаснущих напротив
жизни нет и смерти нет
ночь безлунная стерильна
ткань небесная непрочна
серафимовое царство
проступает на просвет
серафимовое царство
распоров закрытый космос
лученосно обозначит
прохудившийся восток
и почудится что снова
через омертвелый остов
выпустит душа наружу
уцелевший лепесток
***
Нет, мне тебя не нужно –
раз и два –
опаздывают верные слова,
жужжат натужно
в надтреснутой коробке
черепной.
Лети-лети с горы, бескрылый мой,
легко и кротко.
Твой уроборос непреодолим:
расплавленное станет ледяным
и снова день – полным-
полынно-полон...
Не мнимым размыканием сквозным,
а данностью, распятой в треугольник.
CARPE DIEM
1.
Бабочка-однодневка
успевает так много:
возникнуть, повзрослеть,
увидеть мир и принять его в себя,
передать эстафету.
Или не успевает,
смотрел ли кто-то ее глазами?
Мой день длится десятилетия,
и я не успеваю.
2.
Отпеваю сны, не умея петь –
неустанная плакальщица
над гробом памяти,
над горькой заводью
неосмысленного,
несказанного,
выдуманного на треть,
невозможного на две трети.
3.
Спичечный коробок,
сожженный мартовской ночью
за воротами храма,
сдавший излет зодиакального лета
желтому пламени
почти без боя,
в который раз отпускаю
в грязную урну,
но все еще больно.
4.
Рано или поздно
случится жаркое, сенокосное.
Босыми ногами
чуя песок и камушки,
прорасту макушкой в звезды.
Все будет,
и ничего не останется:
ни страха, ни памяти…
Только космос.
