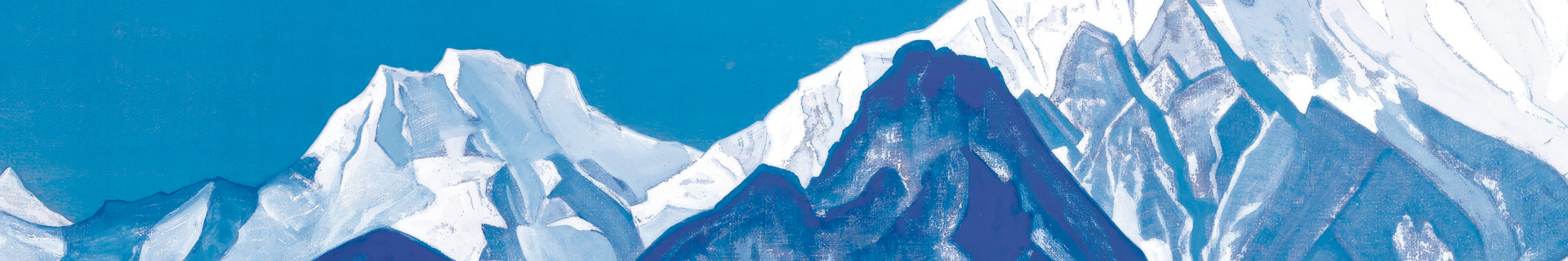
Видео
Коммунистическая, 32
Предисловие
Проснулись?
Умылись?
Позавтракали?
Прошу! –
предисловие автора.
Я был собой,
когда бросал с усмешкой
неискреннее
«молодость про-шла!»…
Душою не кривил,
сочтя успешным
свой каждый день,
и вздох, и жест, и шаг…
Я просто верил
в вечность окруженья,
в стабильность дел,
друзей,
суждений,
тем…
…Но
мир вокруг…–
он что характер женин:
то тот,
то вдруг окажется не тем…
Итак,
Семья…
Вас, может, не устроит,
что мы – вот смех! –
действительно, –
семь «Я».
Семь взглядов в мир.
Семь жизненных устоев.
Моя семья.
Суть самая моя…
Садитесь же, ей-богу, поудобней, –
я расскажу об тех семи подробней.
Товарищам,
повести этой внимающим
от М. Хмызова,
тоже товарища,
если позволите,..
извините меня,-
ОБЪЯСНИТЕЛЬНАЯ.
Я (имярек), – выше см.,
сын такого же Хмызова, но С.М.,
а равно и Хмызовой – но Ж.К.,
с первым пушком на губе и щеках,
решился когда-то поведать семье
(включительно также – Радомской Е.Е.
и Хмызовым-младшим: А.С. и М.С.)
их образов жизни, характеров смесь,
а именно –
строгости,
страсти
и странности,
то есть –
мыслей, идей и мечтаний пространства,
и в том не раскаиваюсь
ни секунды.
Месяц.
Число.
___ часов пополудни.
ЗА СИМ - УТВЕРДИТЬ.
СТРАХОВАТЕЛЬНЫЙ ПОЛИС______
_______________ (неразборчиво) –
Подпись
Странность Первая.
(с душистой пеною).
Ода Кофе.
Крепкий.
Горячий.
И не иначе.
Чёрный,
как море то,
в зёрнах
и молотый.
С мятой,
корицей ли,
пусть даже с тмином, –
только
НЕ
растворимый! –
С запахом –
смолотого,
зернового,
приготовлением разнообразен:
просто запарен ли
в кружке литровой,
медленно ль поднят
над медною джазвой..,
сварен ли наспех, иль со значением…
Утренний кофе…
Кофе Вечерний…
Есть у кого-то какая идея –
Одну минуту! –
Ща кофе сделаем…
… Тема для общего обсуждения –
Кто там на кухне?! –
Кофе нам сделай!
(Даже в минуту тоски беспредельной:
Чем бы заняться?
Кофе, что ль сделаю?..)
… Купленый наспех
в ближайшем киоске…
Хошь – по-испански.
Или –
по-кёльнски…
Льдом начиняется.
Или – с лимоном.
И начинается
ЦЕ-РЕ-МО-НИЯ:
Будьте…
Спасибо…
Очень и очень…
Стопочка…
Чашечка…
Кружечка…
Чайничек…
Кофе и утром.
Кофе и ночью.
День
провожаючи и встречаючи.
В разных домах
от тайги
до столицы
Разные
странности
и традиции.
Люди различны.
Эта семья
ВСЁ
начинает
всегда
с КОФЕЯ́!
Строгость вторая,
та ещё хренотень…
Привет из средневековья:
наказание через…
Ремень
Приподниму интима занавес. –
Я лично помню от рождения:
ремень – не Средство наказания,
но есть Метода убеждения.
А посему велись дискуссии
порою очень увлекательно,
где я сходил за первокурсника,
а предки – за преподавателей.
Те «лекции» мне так запомнились! –
и наизусть, и обстоятельно…
…Аудитория пополнилась:
брат и сестра шли на занятия.
Был обучением их занят я,
В заду испытывая жжение:
– Ремень, - вещал, - не наказание,
а просто метод убеждения…
Не преуспев в внушенье этом,
но сделав грозное лицо,
Я шёл за крайним аргументом
на нашу кухню – за отцом.
И он, ничтожнейше сумняши,
всегда помочь мне был готов:
- мол, за ремнём иди к мамаше,
а мне – в обком…
И был таков…
Спасибо предкам, что с рождения
учили очень занимательно
нас
Алгоритмам Убеждения
и Средствам
Мирной
Дипломатии…
Страсть по общению
Очно-заочному.
Телефон. Он звонил у нас
И днём, и ночью..
Ода телефону.
... По работе отцу полагались блага́.
Он смеялся:
-Вот, тоже мне, пане-панове!
Ни обкомовских дач, ни машин, ни фига!
Но с одним согласился:
нам выдали номер.
Как мы ждали порой откровенье звонка!
Если долго не виделись.
Если не слишком.
Пусть с соседнего дома.
Пусть издалека. -
Будто рядом звонящий.
Не видно, но слышно.
(С пацаном со двора
из балкона в балкон
в две коробки от спичек мы нитки вдевали
и болтали друг с другом,
что в твой телефон,
кулаками по стенке на связь вызывая)
Он был членом семьи.
Он был главным жильцом. -
этот дисковый монстр.
И, как дань уваженья,
мы вели разговор к аппарату лицом,
стоя строго во фрунт и почти без движенья.
Этот диск телефона! -
Как дырчатый сыр,
где впечатаны цифры в облатку из воска....
...Телефон был один на двенадцать квартир.
И предмета престижнее не было вовсе.
…Но к хорошему очень легко привыкать.
И уже не срываешься к каждому звону:
- Что там, некому трубку поднять?!
- Кто-нибудь, наконец!
- Подойди к телефону!
Я в привязке к шнуру телефонной сети
понимал всю ответственность слов или действий:
созвонился о встрече -
обязан прийти.
Ну, а ждёшь опоздавшего - жди и надейся!
Созвонился -
и больше не переиграть.
Жизнь не будет с цветами нас ждать под часами.
И старались мы жить,
и старались не врать,
будто сразу и на́бело жизни писали.
...Я звоню ей.
Волненье сжимает виски.
Слышу в трубке свой странно изломанный ди́скант.
Указующим пальцем
бравой руки
ковыряюсь в ноздре телефонного диска.
* * *
А о других историях, страстях
Я расскажу уже у Вас в гостях.
… И вообще, знакомиться пора.
Ходить друг к другу в гости, не стесняться.
Пишите адрес:
Город Волгоград,
Коммунистическая, 32-15.
Давно это началось, да вот по сию пору и не закончилось. И будет ещё, как минимум, пока дерево из сказки живо и зелено. А и засохнет – всё это длиться будет, пока не упадёт дуб этот, да в землю не уйдёт. И тогда ещё немного продлится.
В конце старого века, за год до прихода следующего, приехал в одно село князь из большого города – отдохнуть ли от трудов каких, за впечатлениями новыми чтоль (хотя, где уж тут впечатлениям-то!), главное – приехал князь, каковых отродясь в селе том не видывали. Знатного рода, благородных кровей…
А село то – точно не Песчанка, может, Уваровка, или Городища какая-нибудь, всё одно – дырка на карте от бублика. С берегов речушек Мечёток – Сухой да Мокрой – дома друг в друга пялятся штук с пятьдесят по́ два в ряд – и всё село.
Ещё, правда, на верхних отрогах балки Коренной ряд добротных хозяйств, особняком, как на выставке, выстроился, там-то князь себе дом господский и сладил.
И хоть князь с собой кучу обслуги привёз, да и местных вокруг него - как комаров после паводка: всем поздороваться, покланяться, про погоду что умное сказать, - но всё больше одному ему нравилось по селу прохаживаться, а ещё сильнее – за околицей. Причём, порой, идёт-идёт, да и остановится, как на стену налетел, ещё и голову в небо закинет, а руки за спиной, как шёл, так и держит… Постоит так некоторое время, вздохнёт, улыбнётся – и дальше пошёл. Вот такого его, в стену упёршегося, Дарья, молочница, случайно коромыслом-то и зашибла, аж ведро слетело. Не насмерть, конечно. Но всё равно сильно: с башкой у князя совсем плохо стало, потому что влюбился он в убивицу свою. Вопреки рангам, сословиям и приличиям.
А та – уж точно, дура дурой: то ли из жалости, то ли, правда, что хорошее в человеке сумела разглядеть, взяла, и в ответ тоже влюбилась в князя. Да так, что на всё и согласная. Даже ребёночка родить. Девочку. С большущими глазами. Как у папаши. Голубыми, естественно. Ольгой назвали.
Девочка, понятно дело, у матери в семье жить стала, в двух домах от господского двора, на улице, что по́верху Коренной шла. А как чуть подросла, стала на улице играть с такими же сорванцами, да всем, чем папаня её через мамку угощал – пряниками, леденцами, прочими детскими ценностями – с окрестной шпаной делилась, особенно с одним, белобрысым, худющим и смешливым. С соседнего двора. Назаркой. С ним весело было и летом лопухами драться, и осенью посреди лужи смотреть, как сапоги в грязь засасывает, да и зимой -только ленивый да совсем старый ангелочков на снегу руками-ногами не рисовал! Вот она и держалась того белобрысого: весёлый он да придумчивый. Как придумает чего, как скажет – хоть дерись, хоть обнимайся!
Потом война началась. С японцами. Те, кто с села, те и знать про неё ничего не знали: далеко слишком, да и японцы эти не известнее индусов, ни тех, ни других отродясь не видывал никто. А вот князю по роду, да и по службе пришлось ехать на самый восток на дальний. Дарье не понять было, надолго ль это, да и куда: всё, что за селом, уже заграница, а дочке её и вовсе неведомо - зачем и почему. По довольствию же и прочему быту всё как прежде осталось, благо, у князя дворни полно – передадут и харчи, и гостинцы. А приятелю дочкиному, белобрысому, так и вовсе всё едино, - не тятька, не дядька, что был, что не́ был.
Нет-нет, не думайте, князь на той войне не погиб, даже орден получил, и даже уже ехал к любимой своей. Да в то время по всей стране чума перекатывалась: там объявится - полдеревни выкосит, успокоится, передохнёт, да и через три городка в четвёртый заявится, чтоб снова пакостить. Вот на какой-то станции она к князю и пристала, что приехал он к молочнице своей уже больным, и тут же помер, только и успел, что наказал похоронить их в одной могиле. Та недолго погоревала, да за ним и ушла, от него же и заразившись. Завещанию перечить не посмели, положили их вместе с разницей в неделю.
Могила их, кстати, до сих пор на старом закрытом кладбище самая красивая, с самой ажурной оградкой, ни табличек, правда, не осталось, ни имён теперь никто не скажет – не помнят.
Девчушку же князеву в услужение отдали, - на девочек трат немного, по хозяйству сызмальства обучены. Хорошо, что хозяйка из образованных была, людьми не помыкала. Плохо, что теперь не побездельничать, лопухи не подрать, лужи не пособирать, в снегу не поваляться. Хоть плачь, хоть обижайся.
Назаровы же родители на заработки надумали поехать – вроде, неплохо жили, да надо ж ещё лучше! Оставили (вроде как на время) хозяйство с Назаркой в придачу на шурина (толковый мужик, хозный), да и махнули – в Волоколамский, уезд, в деревню Марково. А там как раз республику объявили, с флагами, как положено, с речами, - про плохого царя да хороших сапожников, и всех в эту самую республику понапринимали, да ещё и всю родню к себе подтянуть помочь обещали. Правда, ничего там у них не получилось, у республиканцев-то: и Назарку родители к себе не перевезли, и вернуться не вернулись. Нет, шурин, конечно, человек не злой, осиротевшего пацанёнка к себе-то забрал, в город, что уже в пятнадцати верстах от свояко́ва дома начинался, но с семи лет – уже мужик в доме, не забалу́ешь: ни по улице не пога́йдать, ни на речке не поплескаться, хоть проси, хоть упрашивай.
Так и расстались Олюня с Назаром. И вроде бы даже забыли друг про друга. И даже сказка могла бы закончиться (ну ведь правда, у всех началась своя жизнь, потом повзрослели, всяко бывает, ну!).
И вот однажды, ох уж, эти «однажды»…
В страстную неделю, исповедовавшись накануне, в Великий четверг Назар Палыч шёл к причастию Святых Даров. И хотя храм, самый большой и красивый в городе, был освящён только на днях и ни с кем из его прихожан он не ещё был знаком, одно лицо показалась знакомым. А вот Ольга как раз-таки узнала его сразу. Она со своего села намеренно приехала в новый собор – и посмотреть, и причаститься. А Назар, поглядеть на него – парень видный стал, не из второклассной школы, чай, - уже и реальное училище кончил. А Олюня уже совсем прямо на выданье, ещё год-другой – и в старые девы спишут.
Целый день ходили они, не глядя, куда идут и рассказывали друг другу всё подряд – про тёток из села и дядек из города, про странные дела в столицах да что зерно подешевело – странно, а догуляв до дубравы у железнодорожной станции, стали как дети, кидаться друг в друга желудями, уворачиваться, бегать, прятаться за дубами и вновь кидать жёлуди горстями. Как малы́е, ей-бо, хоть стыди, хоть зубоскаль!
- А давай посажаем их! Ты – свою деляночку, я свою, и посмотрим, чьих дубочков-то больше да выше уродится!
А чего б и не посадить? Посадили. Желудёв по дюжине каждый, а то и по две. Ровненько так, вдоль огородки станционной. Слева – его, справа – её. Вот только близко слишком, расстояния промеж желудей совсем небольшие оставили, особенно на границе двух деляночек, там лунки почти соприкасались, будто боязно им было по одному, будто секрет какой шептали друг дружке. Ну, да всё равно пересаживать, как ростки пойдут – не все ж примутся!
Но принялись почти все. Ольга-то в тот же день домой вернулась, в село своё, а Назар регулярно ходил к делянкам, поливал, полол, даже навес нехитрый от солнца из веток соорудил, как будто, сохраняя мелочь эту, свои воспоминания детские охранял. И на следующую Пасху они уже вдвоём в восхищении смотрели, как держали строй на ветру тростинки вершка в два каждая (а какая и с пядь!) там, где в прошлом году только грязь была.
Обе половинки посадки – и левая, его, и правая, её, были на взгляд одинаковы. Одинаково подросшие, одинаково беззащитные, одинаково стремящиеся выжить. Рано пока судить, чьи дубочки краше – решили они. Правда, не заметили, как две тростинки, что посерёдке выросли, на самой границе левых и правых, вверх тянулись, плотно прижавшись друг к другу: слишком близко их прошлой весной желудями посадили. Такие обычно мешают сами себе и оба в итоге гибнут. И надо бы рассадить, да кто б ещё увидел бы! Так ещё год прошёл, хоть считай, хоть вычитай.
Следующую Пасху Назар праздновал один. Олюня весточку передала, что уехала за пять с лишним сотен вёрст, к тётке захворавшей, в деревню, что местные «Тума ляй» зовут, Дубовый овраг то есть. Помочь ей надо, тётке, по хозяйству, так и написала, мол, Тамала – это неспроста, мы ведь детьми над оврагом жили, дубочки вон тоже посадили, вот и судьба мне туда поехать, съезжу и вернусь, не думай. И не вернулась. То ли помощи потребовалось больше, то ли годы лихие начались, то ли ещё что, но так и осталась в Тамале этой.
Назар часто наведывался к станции, с дубочками поболтать, на поезда суетные поглазеть – вдруг из какого клуба дыма подруга детства его вынырнет… Знал, что не увидит, но и знал, что всё хорошо с ней, а почему знал – понятия не имел. Особенно когда делянку общую обихаживал, как с ней переговаривался. И смешок её будто в ответ слышал, - не воробьи же ж в кустах чирикали!
Ещё через год службы в большом соборе запретили, и весь Великий пост ходил Назар в небольшую церквушку, бывшую раньше погостной. Там и алтарником стал, а когда новый батюшка сменил ушедшего на покой, помогал тому обустраивать территорию вокруг: ограду новую за апсидой сложил из кирпича, колоколенку побелил изнутри, да и так, по мелочи, в любой день было куда руки приложить. Станцию, где они делянками мерялись, стали расширять, и от греха подальше решил Назар дубочки под новую стену ограды церковки своей определить – а те уж в локоть высотой вымахали! И главное – не понять, чья сторона больше да выше – левая, его, или правая, её. А два-то ростка, которые посредине вместе оказались, уже и вовсе как один – не разделить их, друг в друга прорастать стали. Вот пока выкапывал он все эти веточки из земли, думал, как же там в Тамале той дальней – всё ли нормально, не болеет она, не голодает ли? А как дошёл до сросшегося стволика, так и спокойно стало: хорошо всё с ней, не беспокойся, всё хорошо. Откуда знает, что хорошо – непонятно, да ясно так стало и уверенно, хоть верь, хоть проверь.
Как выкопал он этот, что посередине рос – глядь, а у него и корешка два, но каждый сам по себе. Невидаль, конечно, но не выбрасывать же! Раз уж выжили, так и растите оба дальше как один!
Все ростки, что принялись у станции, перевысадил он повдоль ограды церковной, с три десятка их стали ввысь тянуться и в каждый год какой в локоть, а какой и в аршин прибавлять. А тот, что с одним стволом да с двумя корнями, он поодаль посадил, на полянке, в глубине зарослей, за колокольней. За всеми другими дубками глаз да рук много было, - кто польёт, кто подвяжет, - а за этим, странным, сам ходил: и приствольный круг ему как редут высоким сделал, и добрений всяких в корень всыпа́л, и белил дважды в год, а не только по весне, как иные. И каждый раз, как уходил к дереву своему, так и с Олюней переговаривался, через росток, конечно, но всякий раз знал – жива, здорова. А как вдруг подумает, будто нехорошее что с ней – приболела или ещё что, - так опять к дубу этому, копать, граблить, подрезать – что он, не найдёт, чем себя занять? И снова как-то знает, что легше ей, и на том спасибо.
* * *
Нет уж той церквушки у железнодорожной станции, а станция уже – целый вокзал. Много лет прошло: у людей тех уже и дети состарились, и внуки повыросли. Даже ограды церковной не осталось, и дубы повдоль ней не сохранились. Один только можно найти ещё, поодаль на полянке, в глубине зарослей, не шибко-то он ввысь тянется, зато вширь разросся, всю полянку ту кроной укрывает. Это сейчас здесь более-менее приглажено да ухожено, а вот лет пятьдесят тому ещё диковато было, да и народу поменьше здесь гуляло. И вот тогда, с полвека назад тому, каждую субботу, с утра пораньше, если, конечно, не болели суставы и спина держала плечи хоть как-то в приличиях, приходил сюда один худющий седой человек, прислонял свою трость к какому-нибудь кусту и, прижав к шершавой коре старого дуба шершавую же старческую ладонь, закрывал глаза и улыбался. Долго он так ходил. Не один год. До тех пор ходил, пока как-то зимой, в субботний сочельник под Рождество, открыв глаза, не увидел с другой стороны дуба свою Олюню, державшую ладонью ствол дуба. как раз напротив его руки.
Я почему это знаю – мне про то отец мой говорил, а ему батя его, которому его папка рассказывал, что тогда ещё худющим был да белобрысым.
А слыхали, что про дуб этот столетний говорят? Будто любые двое близких людей, нужно им только стать лицом друг к другу по двум сторонам дерева на север и на юг, да приложить ладони свои так, чтоб между ними ствол дуба оказался, и хорошо-хорошо подумать друг о друге – так всё! Век те двое будут чувствовать друг друга, где б не находились, хоть рядом, хоть по разным странам: жив-ли здоров, не голоден, да не замёрз ли, а то и не загулял ли…
Сам-то я не проверял: моя-то рядом всегда, от неё и без дерева чудесного ничего не скроешь! Но – верю. Чего и вам желаю. Хоть в шутку, хоть в сказку. А лучше - всерьёз.

