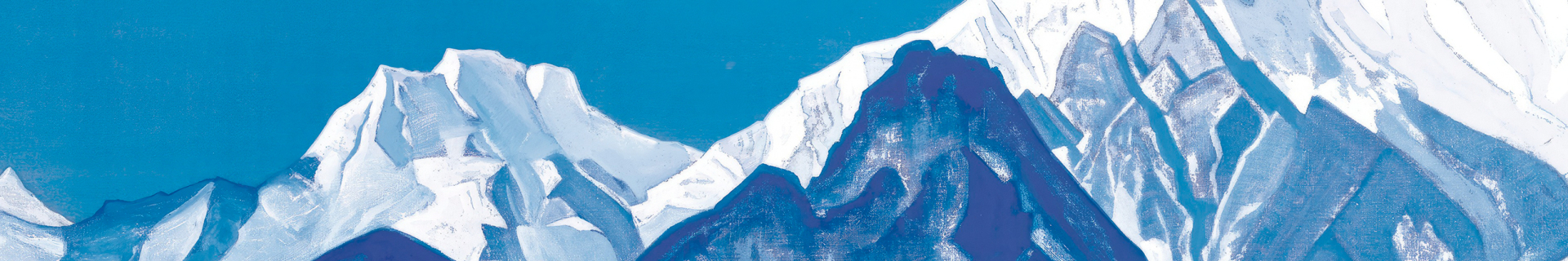
Видео
ДЕРЖАВИН
Не ржавые петли держали
ту дверь, что он вынес с ноги –
подтянут, суров и державен,
раскатистой рифмы снегирь.
Не знали высокие лица
глубинной его высоты,
но смелость ценилась Фелицей,
и он перешëл с ней на ты.
В сотворчестве с гулкою сутью
он плавил себя, как звезда,
властителям льстивым и судьям
по строгости полной воздав.
Сквозь званское звяканье рюмок
почтив грандиозность руин,
идëт он – большой и угрюмый,
дворянства мудрейший друид,
с мирской рассчитавшийся славой –
на смертный стремительный свист,
чтоб вышел из тени кудрявый
отмеченный им лицеист.
БАТЮШКОВ
До чëрных недр познавший сплин,
запаянный в страданье пленный,
усталый русский Гëльдерлин,
Ахилл лихой страды военной.
Жаль, от безумья нету лат,
пятно на сердце в мозг пролезет,
и песен италийский лад
сомнëт душевная болезнь.
Среди рассыпчатых теней
душа на выдох слова просит,
мы кое-что поймëм о ней
по опытам в стихах и прозе,
чуть приоткроется для нас
та мощь психических увечий,
что на вопрос - который час -
даëт права ответить - вечность.
Над Вологдой порхает снег,
и птицы белые пернаты,
и мудрый, как Мельхиседек,
Бог ждëт его в свои пенаты...
ПУШКИН
В том, как смеëтся он и плачет,
чернь не признает своего.
И мал, и мерзок он - иначе,
и всё иначе у него.
Клубится в небе царскосельском
словесной магии туман,
и в отзывающемся сердце
даëт ростки зерно ума.
Движеньем в животворной призме,
как светоносный луч, возник
ведомый чутким протеизмом
воздуховидческий язык.
Вот он идëт дорогой цельной,
блестящей, словно невский лëд.
Вот этот опыт драгоценный
на полке вплавлен в переплëт.
Нырнëшь - выныриваешь бодрый,
счастливый тем, что под рукой
великой росчерки свободы
и воли трепетный покой.
АННЕНСКИЙ
Царскосельский директор
в неприметном пальто.
Ускользающий некто.
Одинокий никто.
Он грызëт заусенцы,
строит даль из песка,
колет мягкое сердце
поездная тоска.
И стучит на репите
по мозгам кэк-уок.
Ищет он в Еврипиде
краткой стойкости срок.
Баррикады на Пресне,
на Неве тонкий лëд.
Льются тихие песни
и трилистник цветëт.
И кончается воздух,
хрусткий, как огурец,
но качается в звездах
кипарисов ларец.
ГУМИЛЁВ
По справедливости воздал
столп огненный за униженья –
так разрывается звезда
перед своим уничтоженьем.
Но он был к этому готов,
в губах цигарку разминая,
от романтических цветов
до ослеплëнного трамвая
пройдя конквистадорский путь
насквозь – шатры, костры, колчаны –
спокойно открывая грудь
крестам (потом), штыкам (сначала).
Друзей убийцам не сливал,
не плëл интриги кружевные
и мëртвым цену знал словам,
поскольку выбирал живые.
Не перьями надмирных крыл –
руками клал стихи, как кровлю,
и мëрзлый Питер растопил
ребячьей африканской кровью.
МАНДЕЛЬШТАМ
Смеются наглые углы,
шуршит бессонная солома,
и воздух меряют щеглы
отсутствием пустого дома.
Но луч, колючий, как чулок,
щекочет губы жарче соды,
чтоб мозг до слова доволок
парное волокно свободы.
И плещет в ротовую щель
и прожигает непрощëнно
слепую логику вещей
метафор ядерная щëлочь.
Так ткëт дыханье паучок
на смертной пожелтевшей пакле,
и смыслов радужный пучок
расходится, как нефть по капле.
Так судорога дорога,
но выпрямление дороже.
И спать ложатся берега
в океаническое ложе.
ХЛЕБНИКОВ
Стронулись травы
в шорох земли.
Новые нравы –
миру вели!
В ритме доверья
уханью сов
движет деревья
магия слов.
Приобретатель –
варит и жрëт.
Изобретатель –
верит и ждëт.
Ткëтся основа,
зыблется грудь –
звона квасного
просит хлебнуть.
Не проседает
ливневый жар –
так Председатель
держит Земшар!
МАЯКОВСКИЙ
Скатерть болотная в глади кувшинок
сброшена на пол – отныне и впредь!
Голос, проверенный в винных кувшинах,
правду последнюю смог прореветь.
Надо признаться, что вы не могли бы –
бритвенный сей риторичен вопрос.
Нате, послушайте выдохи глыбы –
глыбы, работающей на износ.
Над пепелищем, где совесть проета,
где в складки жира дух слился нырком,
жаркой кометой несëтся «Про это»
(в обморок падает даже нарком).
Вскиньте же сборщики ржавого софта
в небо глаза от земной ячеи!
Что там желтеет, как жëлтая кофта?
Солнце к поэту идëт на чаи!
Слову и телу такому – стареть ли?
Смерть в никуда – перспектива дрянна ж…
Вот и гудит в сердцевине столетий
русской поэзии вечный дренаж!
ЗАБОЛОЦКИЙ
Всë раскругляется по новой,
поскольку нет конца в конце:
идут на службу Ивановы,
целуют девок etc.
Мир блещет, как вода на вилах,
и золотится зренья гриль.
Довольна вечная давильня,
неволен мыслящий ковыль.
И ничего не сыщешь проще,
чем ход реальности резной,
когда берëзовая роща
сквозной белеет новизной.
В щепу истëрт всемирный атом,
безумный волк оголодал,
раскинулись просторным адом
Караганда и Магадан.
Но речь поëт над смехом медным,
и, гибель от себя гоня,
слова конкретны и предметны,
как тëплое лицо коня.
БРОДСКИЙ
Дымит резиной от Мишлена,
настроив оптику, как Цейс,
болидом разогнал мышленье
стихотворения процесс.
Но сохраняет втуне яства,
питающие буквиц лоск,
на каторжное тунеядство
осужденный пространством мозг.
У зренья логика простая:
слеза потребна, чтоб моргать,
в слепые зоны мирозданья
поэт — всегдашний эмигрант.
И чем горчей печаль, тем резче
меняется теченье рек,
ведь словно часть пречистой речи
чудесен частный человек.
Подтачивает ржа мембраны,
но с грифельной не слезть иглы,
и стих несут анжамбеманы
на смертный свет из вечной мглы.
