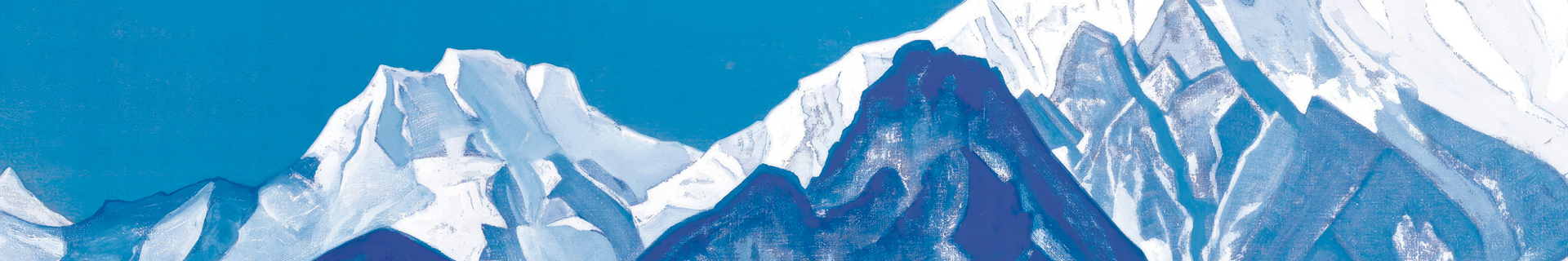
Видео
***
здесь моего ничего
газовых глаз перекличка
певчая птичка-привычка
с нею легко
стать розовеющим облаком
надувным бунтарём
даже объём этой комнаты
ими заполонён
я бы отдал тебе, солнышко
капельку крови моей
только стране моей
нынче она нужней
***
В весенней луже фейерверки,
Крик, брошенный при переезде,
Костлявая берёза, нервно
Заламывающая ветви.
Не страшно. Это, как воздух, —
Всех касается. Вместе — не страшно.
Правда (если было такое слово на самом деле),
Моя молчаливая страна —
Дом неделимых одиночеств,
Словарь пробелов.
***
Была смерть, но птицы об этом не знали,
Была в__на, но небо не приспустило флаг,
Всё это было не здесь и не с нами,
Но всё это было, и дальше всё будет так.
Пока умирали и убивали,
Пока улыбались и ели в кафе,
Над ними, над нами перелетали
С кулака на камень, с копья на секиру,
С мушкета на танк, с ракеты на дрон
Птицы, не унимаясь.
И будто бы не было хаоса.
Песня возвращала разорванное, разрушенное, убитое.
Что может слово? А звук? (помимо звука сирены.)
Ничего. Кроме пения птичьего.
Ничего. Кроме вечного синего.
Ничего. Кроме неотвратимого
Наступления сирени.
***
из гербария падает лист
играет трансцендентный этюд
нарисованный чаем
ли мы воскресения
вечер студёный
проезд
передайте
привет
я пришёл к тебе обернись
волком дай на счастье лапу
мне нравится помнить
больше чем говорить
***
заправить в шапку воротник
штаны в ботинки
спешить в родительский тупик
глядеть картинки
на плечи острая пурга
хлопок в затылок
лечь на исходе четверга
пустыня льдинок
на небе иглы и углы
и вдруг мне ясно
она была до этой мглы
она погасла
***
когда умру вернусь к своим любимым
к воде и свету к праху и волне
быть только самым не необходимым
слезить на вой (перед частицей) не
не говорить когда гремит пшеница
стереться гладким языком дождя
застывшая на стеблях жизнь-убийца
не для меня теки меня не для
***
что нам жизни и смерти чужие
мы и сами
не рискуем быть живы
или стать мертвецами
между да и нет
без каких-либо почестей
стелющимися голосами
нас помянут по имени-отчеству
чёрт бы с нами
пропадение пропадом
нет возврата
всё, что было целым, теперь разъято
всё, что было, нынче углы да угли
и мы тоже
мы тоже горели
и потухли
***
солнце упало на ладони и веки мёртвых
ничего если тени
бродят в аду в одиночку
они вечную коротают ночь
вечную гложут скорбь
лишены беспощадной надежды
живые
смотрят вперёд пока не высыхают глаза
в будущем чуда не видно
проклятье мгновения
перерубает образы обещаний
некуда отступать
прошлое кончилось
теперь
мы забудем и будем
мы забудем и будем
мы забудем и снова
и снова
и снова
будем
***
так думали спастись, но было глупо в
чернильницу врастать смолы
нет ничего мертвее этих буков
поднявших чёрные свои стволы
так думали закрыться на штакетник
но белизна переползала в сад
и вот глядит на нас ракит ракетник
и полые листы на пол летят
***
выразительней цифр и букв
паузы и пробелы
писано белым на белом:
тишины требует зв-к
умолчания б-г
так и написано: говорить
можно лишь незаветное
вот сл-во белым огнём горит
вот ничего не видно:
и всё понятно
КОГДА ОНА ПРИХОДИТ
― Понимаешь, она и не часто приходит. Раз в месяц только. Но каждый раз спрашивает. И, вроде, вот уже и сил нету терпеть, но между её приходами как-то поостынешь, подумаешь: ну, нормально пока, терпимо. Ушла же, оставила в покое. Жить можно. Терпимо, да, терпимо.
Сегодня была. Пришлось встать раньше, чтобы прибраться ― а ведь выходной ― я и на работу-то едва могу голову оторвать от подушки. Всякий раз посмотришь на комнату ― глаза выколоть хочется. Помойка! Конечно, помойка: носки завязли в пыли под батареей, кружка к письменному столу прилипла, гора одежды на стуле ― без понятия, откуда у меня столько одежды вообще. И что будет, когда она придёт? Она ведь за всё спросит, понимаешь, за всё. Это она только кажется доброй и понимающей, но на самом деле ― я видел это в её глазах ― там нет ни сочувствия, ни милосердия, ни успокоения. Перед ней ты как на операционном столе: ничего не спрячешь, всё видно под ярким светом. Не всякий это выдержит, не всякий. И она как бы спрашивает: как же так? Как же так? А глаза пустые. За ними нет ничего. От этого-то и ещё хуже, потому что, выходит, это ты как будто сам себя судишь, и апелляцию подавать некому.
Всякий раз, когда она приходит, надо браться за веник. И всякий раз я что-нибудь тоскливое нахожу: открыточки там, старые билеты в кино, волосы ― знаешь, волосы самая неистребимая часть человека, можешь лет пять как съехать или облысеть, а остатки твоей шевелюры так и будут гулять между полом и плинтусом. А ещё ведь есть и завалявшиеся на полках фотографии, и запах духов остался между страниц, которые мы перелистывали вечерами… Извини, что-то я отвлёкся, отвлёкся.
Потом я обычно берусь за посуду. У меня теперь просто всё: пока посуда чистая, ем из неё, как закончится ― покупаю хлеб и что-то, чем можно его намазать. Почти безотходное производство. Батоны из «Пятёрочки» в руках ношу, не беру пакеты ― меньше мусора потом выкидывать. Раньше так не было, конечно. В холодильнике всегда какие-то там овощи, фрукты, мясо в морозилке, молоко, сыр ― да что хочешь. Бери и ешь. А теперь вот так. Вот так, да. Да, вот так. Хорошо, думаю, что она в холодильник не заглядывает.
Смотрю на часы. Уже скоро двенадцать, сейчас нагрянет. Успеваю ещё «утёнка» под ободок унитаза опрокинуть, и только хочу помыться, как вспоминаю: а деньги-то, деньги-то! Ведь только деньгами от неё и можно откупиться. Да, вот что ей нужно! У нас как всё устроено? Зарабатываешь — значит, существуешь. А если денег нет, то и тебя нет. Я каждый месяц плачу не за квадратные метры и не за потраченные ресурсы, я подтверждаю свою жизнеспособность. Моя оценивается в 38 тысяч. Три из которых ― по счётчикам. И куда столько воды утекает? Где бы краник подкрутить?
Раньше на всё хватало, можно было и в отпуск съездить, и на концерт сходить. А теперь я порвавшиеся носки не выбрасываю. Сижу вечером, зашиваю под лампой, пальцы иголкой колю. Ничего не осталось, только счета и долги. Только работа и уборка, да она звонит в домофон раз в месяц.
Прежде, чем она поднимется, я ещё успеваю достать из обувницы розовые тапочки ― я их специально сохранил, как и кольцо на пальце, ― ставлю в прихожей немного неровно, как будто скинуты второпях.
Нажимает звонок, заходит. Крестится на икону над дверью:
«Храни Господь это место, Святая Богородица, пусть здесь всё будет хорошо… Как у вас дела?»
«Хорошо», ― говорю.
«Ну слава Богу, слава Богу. Как Танечка?»
«Нормально».
«Работает?»
«Ага».
«А я думала, она сегодня дома будет… ― и на тапки смотрит. ― Всё застать не получается, ― улыбается блаженно так, зубы отличные; вставные, думаю. ― Что ж она, и дома не бывает?»
«Бывает».
«А как она работает? Пять-два? Сегодня же воскресенье».
«Плавающие, ― говорю, ― выходные».
«Ну-ну, ну да», ― и смотрит пристально, а потом словно сквозь меня; я глаза отвожу. Вдруг перестаёт улыбаться и спрашивает: «Денег, наверное, много зарабатывает, раз всегда на работе? Спать успевает?»
«Ну так».
«Вы не знаете?»
«Знаю».
Она молчит. Ждёт.
«Работы много не бывает, ― выдавливаю из себя, как остатки пасты из тюбика, ― да и денег тоже. Я и сам много работаю и мало сплю».
«Да-да, вы молодые, ― она меняет тон, снова становится божьим одуванчиком, ― вам нужно работать, своё наживать».
«Пройдёте?»
«Да нет, я уж вижу, что у вас всё хорошо. Помоги, Господи…» ― крестится опять, поднимает глаза на икону, шепчет себе под нос.
«Ну, в общем, вот», ― показываю деньги, пересчитываю при ней: «5, 10, 15, 20, 25, 30, 35… и три тысячи за счётчики», ― протягиваю купюры.
Она не берёт из рук. Кладу на обувницу. Забирает, заворачивает в чёрный пакет, прячет в сумку.
«Ну всё, спасибо вам. Я пойду. Пускай у вас всё будет хорошо. Господи, помилуй. Храни это место, Пресвятая Богородица, Господи Боже, ― крестит коридор, двери. ― Передавайте Танечке привет. Может быть, в следующий раз увидимся».
«До свидания», ― говорю.
Одному здесь жить нельзя ― она предупреждала меня перед тем, как заключили договор. Ни за какие деньги. Будете один, говорит, ― выселю. Одному жить нельзя. А я вот теперь, видишь, один, один. Хорошо, что она этого не знает. А, впрочем, думаю, она всё знает. Просто издевается надо мной. Всякий раз, когда она приходит, мы играем в эту игру. Она знает, что я мухлюю, но позволяет мне мухлевать, потому что партия всё равно за ней. Она устанавливает правила. А я могу только гадать ― сколько ещё осталось?
Я закрываю за ней дверь, убираю розовые тапки обратно в обувницу и разворачиваюсь, смотрю на прибранную комнату.
Напротив входной двери стоит большая двуспальная кровать. Ровно заправлена, покрыта полосатым пледом. А сверху на пледе лежит подушка. Но только одна. Понимаешь, я забыл достать вторую! Тапки не забыл, а подушку ― забыл! Конечно, она это заметила. Вот и всё. Моя карта бита.
А где же Танечка? Когда Танечка спит? С кем? Я не знаю, не знаю. Ушла Танечка… на работу. Танечка теперь всегда работает. Всегда, всегда!
…О, она всё знает, всё. Но ей нравится издеваться надо мной, она ждёт, чтобы ударить. Выдавливает меня по капельке ― скоро ничего не останется. Всякий раз, когда она приходит, я думаю, что этот ― последний. Можно ли так мучать человека? Но потом я остываю, думаю: терпимо пока, жить можно… Да-да, терпимо, терпимо. Может быть, она всё-таки не заметила? Может быть, может быть.
― Ещё закажем? ― спрашиваю я, не находя другого предлога, чтобы встать из-за стола и прервать его монолог.
― Да.
― Что будешь?
― Без разницы.
― Я сейчас.
― Давай. Я пока тут.
Я иду к слабо освещённой барной стойке, а когда возвращаюсь, он уже лежит лицом на столе между пустыми стаканами.

