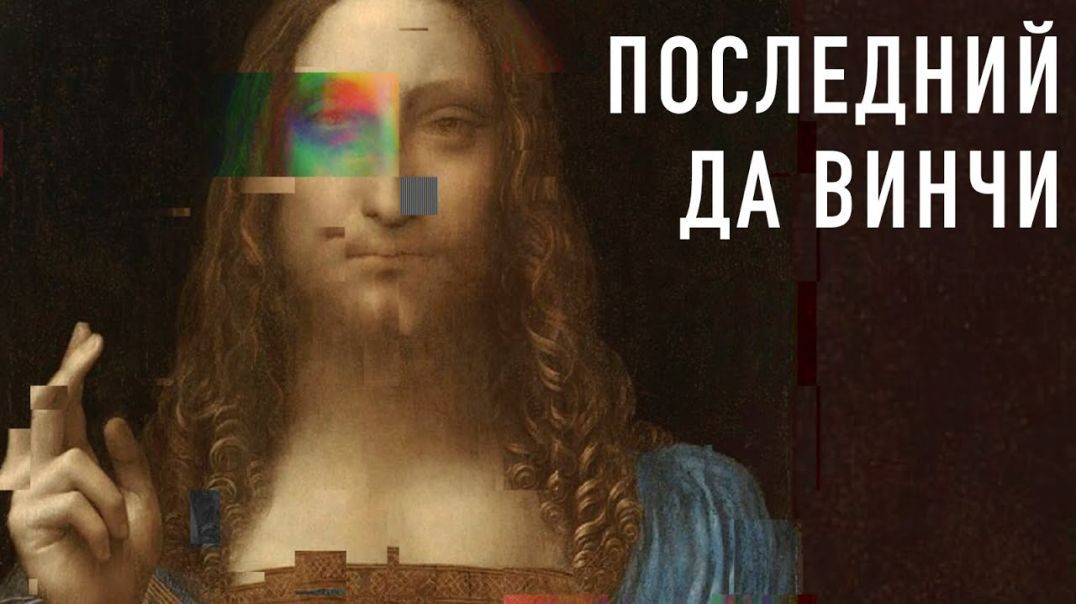Юлия Гайнанова / Последний сон Мелинды / Проза
Последний сон Мелинды (рассказ)
Старуха сидела в центре огромной террасы совершенно одна. Поблёкшая плитка щурилась на солнце, ей подмигивали слегка выцветшие растения. Не отставали колонны с облупившейся краской. Кресло заунывно скрипело.
Предметам и женщине отвечало море. Оно в неспешном ритме встречалось и расставалось со скалами, чьи голые бока были равнодушны и к террасе, и к солнцу, и к морю. Они были выше улыбок. Впрочем, их равнодушие ни капли не волновало редкие танцующие травинки и старуху. Она встала с кресла, разложила плед, сняла шляпу и показала скалам язык. Ей нравилось проделывать что-нибудь такое, пока никто не видит, а потом смеяться наедине с собой.
Этот плед был её кроватью и обеденным столом. Так она платила за грехи молодости.
Её первым грехом был торт. Шоколадный. И он того стоил. В этой главе она бы не поправила ни буквы.
Мелинда росла в строгости, но не какой-нибудь там религиозной, а самой настоящей, телесной строгости. Её мать настрадалась в детстве, поэтому своих взрастила в лучших условиях — на природе. Они ели только фермерское, гуляли по четыре часа в день, обязательные физические упражнения — несколько раз в неделю. Приём пищи и сон строго по расписанию. И ничто не могло этому помешать. «Где же они жили, в лесу что ли?» — спросишь ты. Так и было. Они жили в лесу.
Но как же в лес пробрался шоколадный торт?
Мать не была глупа. Она понимала, что здоровому телу всё же придётся на какой-то период обмакнуться в нездоровую городскую среду. И проводила тренировки. Выезжали в ближайшие городки. Мать подводила детей к витринам кондитерских, выискивала самого неприглядного посетителя и неистово тыкала в него пальцем. «Вот что бывает от сладкого!» — говорила она тихо, словно шипела. И плевалась, и мелкие брызги слюны на стекле марали привлекательную вывеску.
На обратном пути её верхняя губа тряслась на ухабах под подозрительным слоем белой пудры.
Они повстречались в общаге. В лесу институтов не было, и Мелинда поступила. Мама справедливо считала, что главное она заложила, а дальше пусть сами.
Он стоял посреди кухни: одинокий, доступный, привлекательный, чужой. Мелинде стало любопытно. Она села, сложив руки по-ученически, и посмотрела ему в глаза, в розочки кремовые.
Запах. Наклонилась ближе. И никакого отвращения, никаких пальцев матери, несмотря на годы тренировки. Отлично понимая, как бескультурно поступает, Мелинда ткнула пальцем в торт, потом в рот, потом в торт, потом в рот, пока торта не стало.
Торт запустил серию других грехов. Во-первых, она взяла чужое. Во-вторых, она соврала, что не видела никакого торта и вообще не знает как выглядит «эдакая гадость».
Отношения с соседками были подпорчены, но её это мало волновало. Мелинда повторила страдания матери, несмотря на здоровый зачин. Восторг от шоколадного торта хотелось продлевать бесконечно. И она продлевала. Блевала и продлевала. Желудок-то не резиновый.
В середине жизни она так и не пришла к истине золотой середины, приняв её лишь умом, но не телом, не сердцем. Потому и пледом наказали, и с террасы не выпускали, и ставни закрывали, и окна занавешивали, чтобы не видеть. Но поделать нельзя ничего. Старуха была там, на воздухе, вовне и никуда не девалась. Она улыбалась скалам.
Был ведь и другой грех. Федерико. Он тоже стоял посреди комнаты — одинокий, доступный, привлекательный, чужой. И точно так же она его попробовала, пока не съела целиком. Вот до самой последней бисквитной крошечки.
И глаза у него были, как розочки кремовые. То есть масляные. Сладострастник. А Мелинда, чёрствая и поджарая, как корочка хлеба, Мелинда, запросто села напротив за стол, сложила руки по-ученически и объявила:
— Вы мне нравитесь.
И никакого отвращения. Секс. Не прямо на вечеринке, конечно.
Опять она взяла чужое. Федерико, хоть бы и сладострастник, а ходил уже в женихах.
Мелинда всё время врала и упрямничала, что нисколечко его не любит. Да, понравился, но вообще-то нравятся ей многие. Этим она его до исступления доводила. И сексом. «Эдакая гадость».
Отношения с соседками тогда и вовсе испортились. Ведь они были подруги невесты Федерикиной. Но Мелинду это мало волновало. Он открыл ей новое блаженство, и ей хотелось продлевать его вечно.
К середине жизни она мужчину замочалила, замучила, заездила до полного исчезновения. Сладострастник проклятый. Не выдержал, умер на полпути, весь кончился.
Бежать-то он пытался ни раз. Но возвращался, признавался в грязных изменах и тряпкой в ногах валялся, пузырчатыми соплями растекался, в окошки высовывался.
Она поджимала рот, отводила глаза, а внутри гоготала. Потому что опять победила. Потому что кайф вернулся. А что грязное без неё было — из сердца выметала. Покаялся, значит не было.
Он убегал от холода её, от взгляда сурового, от понимания, что плюнет — он не только высунется, но и прыгнет вниз.
И знала, что мучит, что тут сплошное физическое, да и плюнет, пожалуй, когда-нибудь. А он раз — и кончился. Неожиданно. А винили зачем-то её.
Да те грехи-грешочки волновали живущих в белом доме с террасой для полноты чувства, в довесок. Конкретно ненавидели её за третий грех.
О, это был самый страшный, самый настоящий грех, противозаконный в буквальном смысле. Героин.
Она так и помнит, как он сказал: «Надо в этой жизни всё попробовать». Тот, второй, после Федерико.
Старуха на пледе перевернулась на живот, подпёрла подбородок руками. Расхохоталась. Девочкой думала, что эдакая гадость никогда её не соблазнит. Она боится уколов! Чтобы так унизить своё тело: ни одно удовольствие того не стоит.
Было красиво. Красный бархатный диван, она — зрелая, но привлекательная, белая нога с гладкой кожей из разреза платья. А на фоне — окна во всю стену, на фоне — огни, на фоне — джаз.
Он полз по ней, как змея, сильными руками, от которых она была без ума. Загорелые, со взбухшими венами, на её белой ноге. Она и не помнила, как он уколол, как затягивал жгут на тонкой лодыжке. А кайф — кайф она помнила хорошо. Ни торт, ни Федерико и рядом не стояли. И рука загорелая померкла.
Старуха обернулась: рассыпался белый дом с верандой, и внуки на лошадках и дети за закрытыми окнами. Летит нога в красных шортиках и гольфике, летит яблочный пирог, летит кресло с пятном от томатного сока, летит деревяшка, на которой отмечали рост. Всё в дыму, крошке. Будто на гриб-дымовик наступили. Сама наступила.
Ничего не будет.
На шее затянули верёвку и потащили вниз со скалы, били о камни, не дали мечтать, выбивали нелепые фантазии как пыль из ковра. Героин — не Мелинда, измен не терпел. В самом низу швырнули в море, шамкающий рот заглотил солёную воду, лёгкие загорелись.
Но и это всё неправда. До старости Мелинда не доживёт. Она умрёт сегодня ночью. От кайфа и за грехи. За закрытыми ставнями ей не простят, что она не позволила им быть.